
«Одна маленькая женщина, у которой были свежие, немного припухлые губы (от них пахло майской малиной) и настоящий поэтический талант, очень часто и очень мило удивлялась: – Скажите, почему никогда, никогда не надоедает слышать: “Я люблю вас?”». Проживающий в 1910 году в Париже одесский журналист Натан Инбер повторял эти никогда не надоедающие слова своей будущей жене Верочке Шпенцер. Верочке было 20, она была из Одессы, в Париж попала из Швейцарии, куда её отправили любящие родители – укрепить здоровье. Она так и не закончила Высшие женские курсы, но её стихи уже публиковались в газетах.
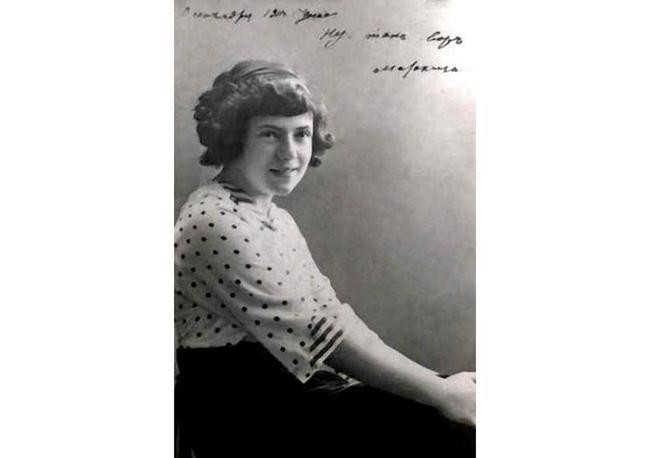 Вера Инбер в молодости.
Вера Инбер в молодости.
В Париже она быстро перезнакомилась с художниками, поэтами и писателями, поменяла фамилию на Инбер и издала книжку «Печальное вино». В стихах упоминались «двуликая любовь», «знакомый яд» и «больная грёза». Книжка понравилась Эренбургу, её похвалил Блок, но некоторые критики нашли стихи жеманными. Когда у Инбер родилась дочь Жанна, она стала писать стихи о детях и для детей, которыми до сих пор зачитываются и взрослые. Песенки про маленького Джонни, у которого «горячие ладони и зубы как миндаль», и «Девушку из Нагасаки» напевали по всей стране, даже не зная, кто автор текстов.
Свои стихи Вера иногда подписывала Вера Литти (маленькая). Она действительно была невысокого роста, но характер у этой «маленькой» был сильный. Семью ее было трудно назвать обычной: в доме Шпенцеров воспитывался в школьные годы брат её отца Лейба Бронштейн, ставший потом Львом Троцким. Он писал в своей книге «Моя жизнь» про политические взгляды в семье: «Умеренно-либеральные на гуманитарной подкладке, у Моисея Филипповича туманно-социалистические симпатии, народнически и толстовски окрашенные». Но образование, первые книги, знакомство с многими выдающимися людьми дала Льву именно эта умеренно-либеральная семья. В ней выросла и девочка Вера, которой было очень интересно жить и которая очень хотела себя проявить.
В 1914 году она с мужем и дочкой вернулась в Одессу. В городе выходило множество газет и журналов, выступали с концертами Вертинский, Иза Кремер и Утесов, в цирке собирал толпы почитателей борец Иван Поддубный, работали театры, кабаре, собирались литературные кружки. Вера выступала на поэтических вечерах, печаталась в газетах, писала для театра и играла в спектаклях.
 Вера Инбер в молодости.
Вера Инбер в молодости.
«Вера Михайловна Инбер написала для меня и для себя маленький диалог кукол, – вспоминала актриса Рина Зеленая. – Она была французская кукла Мариетта из Прованса, а я – русская Матрешка... В финале В. Инбер пела: “Я Мариетта, родом из Прованса, / Люблю поэта Анатоля Франса”. А Матрешка, впервые заговорившая со сцены, отвечала: “А у нас есть свой поэт московский –Владимир Владимирович Маяковский”. Нет, Инбер не стала революционеркой, как ее дядя, она просто была свидетелем того времени, писала стихи, пыталась заработать самыми разными занятиями – даже читала лекции по истории костюма на учительских курсах. Будущие учителя слушали с жадностью: «Они верили, что история костюма поможет им уяснить поступь и осанку сегодняшнего дня». Ни тогда, ни позже она не приписывала себе чужих поступков:
Я хотела бы помнить о том,
Как в Октябре защищала ревком
С револьвером, в простреленной кожанке.
А я, о диван опершись локотком, писала стихи...
 Лев Троцкий 1917 год
Лев Троцкий 1917 год
В 1919 году Натан Инбер уехал из России, Вера поехала с ним, но вернулась: жить в эмиграции она не захотела. Громадные перемены в стране пугали её, но и привлекали необычайно, она воспринимала их как поэт: «Город был переписан наново, как декрет, и все ненужное вычеркнуто». «Всё было сдвинуто со своих мест, старый календарь вырван с корнем, а новый ещё не врос, как следует, не прижился», – писала она позже в «Месте под солнцем», повести 1921–22-го годов. Вокруг все говорили и думали о Москве, там «была работа, счастье, жизнь, полнота жизни». В 1922 году она покинула Одессу с дочерью и вторым мужем, профессором одесского Института народного образования, будущим академиком и прославленным электрохимиком Александром Фрумкиным. Стихотворение «Уж своею Францию не зову в тоске» она написала уже в Москве:
Торные, окольные
Все пути кругом.
Ездила довольно я,
Похожу пешком.
...
Путь мой не бесплоден,
Цель найду опять.
Только трудно родину,
Потеряв, сыскать.
В столице её стихи и очерки оказались востребованы. Ей нравилось ездить по стране, посещать стройки, спускаться в метро, ей было интересно рассказывать про эту новую жизнь. А ещё в Москве был Лев Троцкий, ставший к этому времени одним из главных людей в правительстве. Встречалась ли Инбер с двоюродным дядей? Судя по написанным стихам – да:
При свете ламп – зелёном свете –
Обычно на исходе дня,
В шестиколонном кабинете
Вы принимаете меня.
Затянут пол сукном червонным,
И, точно пушки на скале,
Четыре грозных телефона
Блестят на письменном столе…
 Вера Инбер
Вера Инбер
Воспользовалась ли она высокими связями? Почему это родство ей не припомнили, когда сажали и расстреливали троцкистов? В зарубежные командировки ее отпускали, с 1924 по 1926 годы она провела большую часть времени в Париже, Брюсселе и Берлине, ее статьи и очерки печатали «Огонек», «Красная нива», «Прожектор». Она искренне «вписалась» в новую жизнь, она ей подходила. Вышли новые сборники стихов для детей, написаны знаменитые «У сороконожки народились крошки» и «Мальчик с веснушками». В 1926 году главному редактору «Огонька» Михаилу Кольцову пришла в голову идея напечатать в журнале коллективный роман «Большие пожары», написанный 25 лучшими современными писателями. Первую главу поручили Александру Грину, Вера Инбер талантливо воссоздала одесский колорит в главе «Дошел до ручки!».
Она очень изменилась, изменилась вместе со страной, которую сама выбрала и полюбила. В 1932 году она случайно услышала песенку на свои старые стихи: «Опустив голову, я выслушала все, вплоть до заключительных слов, в которых поистине заключалось нечто пророческое: “С тех прошли недели, / И мне уж надоели / И Джонни, и миндаль. / И, выгнанный с позором, / Он нищим стал и вором, / И это очень жаль”. Прошло много недель. Прошли годы, прошло 15 лет. И вот я встретилась со своим Джонни, рождённым в октябре 1917 года, чуть ли не в самые дни революции. В настоящее время, выгнанный с позором из своей страны, он стал хуже, чем нищим и вором: нахлебником парижских кабаков. Он переменил среду, воздух, социальный строй. Пробраться к нам в СССР он может только контрабандой. Граница легла между ним и мной. Мы уже не узнаем друг друга и не кланяемся при встрече. Вот так порой уходят от нас наши герои. И прекрасно делают!..»
 Встреча с писательницей Верой Инбер
Встреча с писательницей Верой Инбер
В 1933 году она приняла участие в создании ещё одного коллективного произведения. НКВД организовал поездку 120 писателей на Беломорско-Балтийский канал. Из них 36 стали авторами книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». В предисловии было написано: «За текст книги отвечают все авторы. Они помогали друг другу, дополняли друг друга, правили друг друга». Имя Инбер встречается в пяти главах, вот, например, цитата из главы «Заключение»: «Учёные бреются, протирают очки, с удовлетворением видят, что столы такие же, как и в тех учреждениях, откуда их, учёных, взяли, и возле плоских чернильниц такие же деревянные ручки. Они берут ручку и покрывают большие белые пространства бумаги значками на различных языках. Они пишут книги, они пишут выводы, они совещаются, они щупают, ворошат эту страну, эти сивые валуны, озера, порожистые реки. Все это – реки, озера, топи – сжимается, стискивается, превращается в один клубок, чтобы этот клубок, сброшенный с песчаных холмов Медгоры, покатился к Студёному морю, оставляя за собой шлюзы, дамбы, водохранилища, дома, машины, самое главное – иных, чем прежде, инженеров и учёных».
 Писатели (слева направо): Шалва Дадиани, Вера Инбер, Всеволод Вишневский и Леонид Леонов.
Писатели (слева направо): Шалва Дадиани, Вера Инбер, Всеволод Вишневский и Леонид Леонов.
Соавторы у Веры Инбер были очень достойные, все они знали, что канал строится руками заключённых, но предпочитали видеть «перековавшихся» уголовников и уж точно не людей, арестованных по политическим статьям. Так бывало часто – видели то, во что хотели верить. А у самой Веры Михайловны уже появилось опасное ощущение важности собственной миссии: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином…» и так далее. Быть гражданином, быть частью целого, служить государству и быть там, где ты нужнее, – вот достойная миссия поэта. Когда началась война, она отправила дочь и внука в эвакуацию, а сама поехала с третьим мужем в Ленинград. Профессор Илья Давыдович Страшун стал ректором 1-го Медицинского института и оставался на этом посту всю блокаду.
Ленинградская писательница Вера Кетлинская вспоминает своё изумление при виде Веры Инбер, которая появилась в её кабинете в августе, когда кольцо вражеских войск было почти сомкнуто вокруг города: «Всё знаю, – перебила Вера Михайловна, – мы ведь проскочили последним поездом! Но, понимаете, мужу предоставили выбор – начальником госпиталя в Архангельск или в Ленинград. Мы подумали и решили: дочка с внуком эвакуированы, а мне, поэту, во время войны нужно быть в центре событий. В Ленинграде, конечно, будет гораздо интересней».

Всю блокаду она вела дневник, который позже был издан под названием «Почти три года». В нем много интересных описаний и наблюдений, есть и очень страшные. В феврале она получила письмо о смерти внука: «Наш Мишенька умер, не дожив до года... Я прочла это письмо до конца. Отложила. Потом внезапно вдруг быстро взяла его и снова прочла в какой-то смутной надежде: а вдруг мне все это померещилось? Нет, все правда». Она по-прежнему очень много работала: «это вернейшее, всеболеутоляющее средство, которое не изменяет». «Вообще, у меня такое ощущение, что только пока я работаю, со мной не может случиться ничего дурного. Пока я работаю – пуля меня не возьмёт. Пока я работаю – сердце моё не замрет».
«Пулковский меридиан» – поэма, написанная во время блокады и о блокаде, стала главной поэмой её жизни и принесла ей Сталинскую премию. После войны она получила важный пост в Союзе писателей, у неё появилась большая квартира и дача в Переделкино. Но стихи становились все хуже, а сама она все больше превращалась в функционера.
 Илья Страшун и Вера Инбер
Илья Страшун и Вера Инбер
В 1949 году была объявлена борьба с космополитизмом, началось дело «врачей-отравителей». Потерял работу и Илья Давыдович Страшун. Его не арестовали, но происходящее так потрясло его, что у него случилось нервное расстройство и он был отправлен в психиатрическую лечебницу. Личная трагедия не смягчила Инбер, а наоборот, обозлила. И ещё больше напугала. Она присоединилась к травле Пастернака, требовала лишить его советского гражданства. «Известная поэтесса, старенькая, но ещё вполне бодрая, востроносенькая, с белыми кудельками, вносила поправку из зала.
– Там говорится, пускай он будет изгнанником. Но слово “изгнанник” звучит слишком жалостливо, сочувственно. Нужно жёстче: пусть он будет изгоем...» – писал Константин Ваншенкин в «Писательском клубе».
 Поэтесса Вера Инбер. 01.01.1955 г.
Поэтесса Вера Инбер. 01.01.1955 г.
Она написала критическую статью-донос на поэта Леонида Мартынова. Её не любили молодые поэты. Евгений Евтушенко вспоминал: «Вера Инбер поучала нас в духе догматического начётничества, никак не затронувшего её собственные ранние стихи, которые мне нравились».
«На всю жизнь испуганная», «смертельно испуганная» – так описывали Инбер многие. «Животный страх стучит на машинках, животный страх ведёт китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьёт по лежачим, требует казни для пленников» – слова Мандельштама так точно описывают то, что происходило с людьми советской эпохи. «Страх, конечно, не оправдывает её, но, чтобы понять, каково жить в эпоху террора, надо почувствовать себя в шкуре тех людей, которые боялись не только за себя, но и за своих близких, – написал Евтушенко. – Я прошу прощения у Веры Инбер за то, что был по-мальчишески жесток к ней».
























