
Кого из писателей начала ХХ века читали и любили в России больше всех? Толстого? Чехова? Горького? Нет, Вербицкую. «А кто это?» – спросит современный читатель. Так уж вышло, что книги Вербицкой, которые сто лет назад переходили из рук в руки и с одинаковым пылом обсуждались нежными барышнями, суровыми революционерами и высоколобыми критиками, не пережили своё время. Рядом с великой литературой всегда есть другая – громкая, модная и с виду порой даже более значительная, чем её сестра. Но одни книги остаются с нами, а другие, некогда прославленные, навсегда застревают в прошлом – как замерзают кибитки в степи, как падают, не достигнув орбиты, ракеты. И вряд ли это происходит случайно.
Холера-Морбус
Графомания – привычка к писанине, чистейшая болезнь, и подвержены ей не только чувствительные барышни, но и их герои – графы и князья. Имя графа Дмитрия Хвостова, например, читающая Россия повторяла не реже, чем имя Пушкина. Ведь был граф известен как запредельный, умопомрачительный графоман: его неуклюжие стихи вкупе со страстью к их публичному чтению и изданию за свои деньги тысячными тиражами превратили его в героя множества анекдотов.
В молодости Хвостов был богачом и считался завидным женихом. Тем удивительнее, что барышни, к которым он сватался, все как одна его отвергали. Да, граф был довольно дурён лицом, но разве это препятствие? Всё-таки лейб-гусар, хоть и в прошлом. Но был у графа недостаток, который давал о себе знать уже в первые минуты знакомства, – Хвостов начинал читать девицам вирши, в которых жаловался на одиночество: «Не могут звуки громкой лиры томимый скорбью дух согреть». Отталкивало невест и то, что ни на одном поприще граф не преуспел: то военным служил, то чиновником подвизался, а потом засел в имении на реке Кубре и предался единственной настоящей своей страсти – сочинению стихов. «Кубры излучистой по брегу хариту мыслю я обресть!» – восклицал граф. Его родители часто принимали в своём доме знаменитых родственников – поэтов Василия Майкова и Александра Сумарокова, и Хвостов возрос на строках про «стрекочуща кузнеца в злате зло несуща, ядовита червеца на стебле грызуща». На всю жизнь он сохранит верность тяжеловесному слогу классицизма и будет прославлять менад и харит, когда Пушкин сделает достойным печати слово «панталоны».
 Мастер самопиара граф Хвостов
Мастер самопиара граф Хвостов
Наконец графу повезло – он приглянулся княжне Горчаковой. Злой современник прибавляет: она столь же славилась глупостью, как родной дядя её Суворов победами. Во всяком случае, была она девушкой доброй, а уж ума легендарного полководца, принимавшего живейшее участие в делах своих близких, хватило бы на всех. Фельдмаршал мигом принялся устраивать судьбу своего новоприобретённого родственника: попросил у Екатерины Великой пожаловать его камер-юнкером пятого класса. Это звание обычно получали юноши: 35-летний Хвостов в юнкерах был смешон, но императрица разводила руками: «Я ни в чём не могу отказать Суворову: я бы этого человека сделала фрейлиной, если б он этого потребовал». Благодаря Александру Васильевичу карьера Хвостова быстро пошла в гору: вскоре, уже в чине подполковника Черниговского пехотного полка, он сидел в тени гигантских лопухов и, наблюдая манёвры полка, вдохновенно писал, славя судьбу: «Суворов мне родня, и я стихи плету!» «Полная биография, – отзывался коллега по цеху, – тут в одном стихе всё, чем он гордиться может и стыдиться должен».
Слава к Хвостову пришла быстро. «Хотя граф Хвостов не скоро принялся за поэзию, но зато был постоянен в ней, ибо всю жизнь среди рассеянностей, должностей и многих частных дел не оставлял беседовать с музами», – говорил он о себе. Как всякий щедрый графоман, он нашёл своего издателя: петербуржский книгопродавец Иван Сленин снабжал каждую книгу хвалебным предисловием и не жалел кожи на переплёт. Впервые взяв в руки сборник своих виршей, граф понял, что он поэт, и поэт истинный: может лгать Аполлон и лукавить муза, но увесистый бумажный кирпич не соврёт никогда. Граф перебрался в Петербург и взял за привычку приглашать в гости знакомых, становившихся жертвами его страсти к декламации. Среди них было немало известных литераторов – например, чаще других страдал близкий друг графа баснописец Иван Крылов. Однажды он даже поставил Хвостову ультиматум: не буду слушать, если ты сей же момент не ссудишь мне двести рублей! Радостный хозяин выдал деньги, и первые десять минут Крылов честно пытался их отработать, но потом тихонько улизнул за дверь. Граф, увлечённый декламацией, читал ещё битый час, а потом воскликнул: «Не правда ли, что это стих гениальный!» И, только сейчас заметив, что комната пуста, пустился бежать по следам Крылова. К счастью, не догнал. Другим жертвам везло меньше.
Однажды Хвостов терзал стихами своего племянника Фёдора Кокошкина, модного драматурга. Кокошкин наконец возопил, что ему пора бежать: мне пора, дал слово обедать в другом доме! – и уже схватил было цилиндр, как граф вскричал: «Что же ты мне давно не сказал, любезный! У меня всегда готова карета, я тебя подвезу!» И, усадив гостя в карету, немедля дал кучеру указание идти шагом, а сам снова выхватил тетрадь и продолжил пытку, пока экипаж полз по улице. Подобно коварному эксгибиционисту, подстерегающему людей в парке, Хвостов даже ловил жертв в Летнему саду – подсаживался к присевшим отдохнуть и душил их своими стихами. Уйти от погони удавалось не всем – например, министр финансов граф Канкрин жил и работал в Летнем дворце и от всевидящего ока графа деться никуда не мог. Наконец Канкрин не выдержал: «Ваши стихи, ваше сиятельство, так превосходны, что заставляют меня подражать вам, пробуя писать собственные, чрез что я уклоняюсь от обязанностей престолу. А потому я вынужден ходатайствовать высочайшее повеление запретить вам читать стихи!» Хвостов намёк понял и перестал отвлекать государственного человека от работы. Когда друзья и посетители Летнего сада научились разбегаться при появлении графа, Хвостову пришлось пойти на крайние меры – он стал нанимать за порядочное жалованье выгнанных со службы чиновников, которые должны были сутками слушать его стихи. Но и тут ему не везло – через несколько месяцев все нанятые слушатели заболевали какой-то тяжёлой болезнью с апатией и обмороками, которую Николай Греч удачно назвал «стихофобией».
Суворову за мужа племянницы было стыдно: он ценил доброту и великодушие своего родственника, но стихи его считал ужасными. Полководец пытался воздействовать на Хвостова через его жену, выговаривая ей: «Танюша, ты б убедила мужа отказаться от его порока, из-за которого он уже заслужил от весьма многих в столице прозвище Митюхи Стихоплётова!» Но Хвостов оставался глух и к просьбам жены, и к увещеваниям своего увенчанного лаврами покровителя. Страсть была сильней и родственных чувств, и карьерных соображений. Да что там – она оказалась сильней самой смерти. Возвратившись из швейцарского похода, где его войска, выбираясь из французского окружения, совершили легендарный переход через Альпы, Суворов слёг. Дни его были сочтены, и в квартиру графа Хвостова в петербуржской Коломне потянулись толпы знакомых и поклонников, спешивших отдать последние почести генералиссимусу. Умирающий Суворов не терял бодрости духа и, как на поле битвы, отдавал близким распоряжения – как жить дальше. Когда к смертному одру подошёл Хвостов, Суворов собрался с силами: «Любезный Митя! Ты добрый и честный человек! Ради всего святого, брось твоё виршеслагательство! Пиши, уже если не можешь превозмочь этой глупой страстишки, стишонки для себя и для своих близких; а только отнюдь не печатайся. Это к добру не поведёт: ты сделаешься посмешищем всех порядочных людей». Хвостов громко зарыдал. Когда он вышел из комнаты, ожидавшие у входа люди кинулись к нему с расспросами: как князь? «Увы! – скорбно ответил Хвостов, отирая слёзы платком, – хотя ещё и говорит, но уже бредит!» Стоит ли говорить, что совету знаменитого дяди он не последовал?
Оставшись без родственного надзора, Хвостов вывел излюбленное занятие на недосягаемый прежде уровень. Рассылки книг теперь превратились у него в целую индустрию: он отправлял их не только знакомым, но и корифеям, в частности Карамзину и Дмитриеву. Мягкий Карамзин, не желая обижать графа, тщательно вуалировал иронию в отзывах: «Пишите! Учите наших авторов, как должно писать!» Дмитриев чурался лести, отвечая графу регулярной формулой: «Ваша ода или басня, ни в чём не уступает старшим сёстрам своим!» И не обидно, и чистейшая правда: действительно, ничем. Если граф Хвостов выдавал среди муз, нимф и анакреонов вдруг приличный стих, поэт Воейков говорил: «Это он так, нечаянно промолвился». Надо сказать, что Хвостов отличался удивительным добродушием – никогда не мстил критикам.
На пропаганду своего творчества граф не жалел ни денег, ни сил – например, забрасывал редактора «Северного архива» Булгарина хвалебными письмами от читателей, написанными одной и той же рукой. Во время поездок по России Хвостов дарил сочинения всем станционным смотрителям. Доверчивые старички принимали книги с благодарностью, строго выполняя непременное условие графа – вынимать из книг его портреты и клеить их на станции под портретом государя. Граф обходил различные организации, убеждая их принять в дар его сочинения. Многие из книг ждала удивительная судьба. Однажды графу удалось всучить несколько сотен экземпляров своей поэмы «Потоп Петрополя», посвящённой наводнению в Петербурге, секретарю Российской Американской компании. Изругав себя за мягкотелость, секретарь всё же нашёл способ пристроить книги с пользой: отправил всё на Аляску, где служащие компании не один десяток лет делали из плотных страниц отменные бумажные гильзы для патронов. Стихи графа служили России! Правда, столь остроумными оказывались не все из тех, кого граф благодетельствовал. Столичный генерал-губернатор Пётр Эссен едва не вернул три тысячи рублей, пожертвованных Хвостовым в холерный комитет, когда обнаружил, что граф сопроводил деньги героической поэмой «Холера-Морбус».
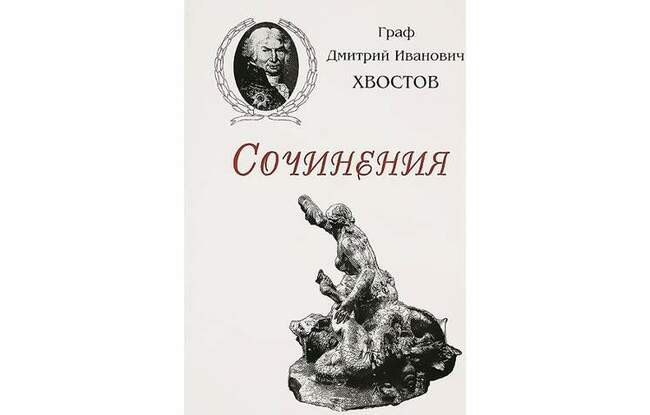
Пожалуй, первым из российских литераторов граф Хвостов превратил масштабный пиар в инструмент пропаганды своих произведений. И, надо сказать, добился эффекта – да, цвет русской поэзии над ним смеялся, но люди попроще, из мещан и не сильно образованных дворян, уверовали в то, что настоящая поэзия – именно у графа: седые отцы наставляли детей-офицеров строками из его поэм, юноши читали стихи графа своим возлюбленным. Правда, заказными рецензиями на самого себя, которые Хвостов без устали тискал в журналах, он окончательно разорил себя. В его дом зачастили кредиторы. Одним из них был Крылов, который по-приятельски одолжил графу кругленькую сумму, а теперь сам остро нуждался в деньгах. Не желая обидеть Крылова отказом, Дмитрий Иванович предложил ему взять в качестве оплаты долга книги. Разумеется, свои. Крылов соблазнился возможностью сдать 500 экземпляров пятитомника графских стихов в тиснёных переплётах известному книгопродавцу Смирдину. Погрузив всю библиотеку на извозчика, он повёз её в книжный магазин. Каково же было его удивление, когда Смирдин наотрез отказался их принимать! В глубоком удивлении Иван Андреевич вышел на улицу, где его дожидался извозчик с интеллектуальной поклажей. «Куда его милость прикажет таскать книги?» – поинтересовался он. Расстроенный Крылов отвечал: «Никуда не таскай, свали здесь на улицу около тротуара, кто-нибудь да подберёт!» Извозчик свалил роскошные тома прямо на мостовую. Правда, пролежали на улице они недолго: подъехавший полицмейстер полистал книги, быстро установил их авторство – и велел отправить обратно к Хвостову. Граф был изумлён, но обрадован: к своим творениям он относился как к родным детям.
Окончательным ударом стало для графа известие, что верный издатель Сленин все последние годы сбывал нераспроданные книги малярам, которые использовали страницы для оклейки стен. Он слёг – и вскоре отдал богу душу. Сентиментальный Карамзин плакал на похоронах и вспоминал свои слова: «Я смотрю с умилением на графа Хвостова за его постоянную любовь к стихотворству. Увижу, услышу, что граф ещё пишет стихи, и говорю себе с приятным чувством: «Вот любовь, достойная таланта! Он заслуживает иметь его, если и не имеет». Поминая графа добрым словом, а его стихи – самыми недобрыми, его приятели вынуждены были признать, что и у Хвостова набралось три строчки, достойных вечности. «Потомства не страшись – его ты не увидишь!» – воодушевлял граф грядущие поколения рифмоплётов. И побуждал их не останавливаться ради поэзии ни перед чем, даже перед плагиатом:
Выкрадывать стихи – не важное искусство:
Украдь Корнелев дух, а у Расина чувство!
Бедная Настя
 Селф-мейд-вумен Вербицкая
Селф-мейд-вумен Вербицкая
…Солнце русского феминизма, Анастасия Алексеевна Вербицкая с детства была окружена выдающимися людьми. Её бабка, Анастасия Молчанова, была знаменитой провинциальной артисткой. Жили они в Воронеже, где отец Настеньки был командиром полка. В этой театральной семье он был чужим: властная бабушка поддерживала культ сцены, танца, музыки. Её муж когда-то содержал в Одессе собственный театр, да всё пустил по ветру. Молчанова охладела к повесе, и он принялся пугать её: не вернёшься – покончу с собой. Но когда и вправду взял да застрелился, Анастасия Никитична не помянула его ни одним добрым словом. Перебравшись в Воронеж и став здесь примой, Молчанова завела совершенно женский дом, где мужчины ходили на цыпочках. Супруга сестры, побивавшего жену, властная Молчанова изгнала из дома – и много лет подряд он виделся с благоверной лишь по ночам, как мальчишка, лазая к ней в окно. С детства Настя жила в мире женских страстей и страстишек: бабушке приходилось гонять то студента, с которым спуталась гувернантка, то приходящих мужей уже седой кормилицы Кати, воспитывавшей с полдюжины незаконных детей. Настя привыкала к тому, что у женщин в доме есть сила. Когда однажды денщик отца Никанор, рыжий красавец, принялся за провинность бить плетью кота, девочка прыгнула на негодяя и зубами вцепилась в его руку. Характер пригодился в гимназии: несколько лет Настенька ходила в любимицах у классной начальницы. Пока та не вошла в класс и дрожащими губами не произнесла: «Оказывается, ваша бабушка – актриса! Ломается в театре, как паяц!» Настя закричала: «Неправда! Моя бабушка – человек искусства!» И угодила из фавора в опалу.
В этом женском доме к любви относились как к гриппу – лучше не подхватывать заразу, но раз уж подхватил – болей до выздоровления. В двенадцать лет Настя влюбилась в гимназиста, написала записку, где назначила свидание, и хотела кинуть ему, когда он гулял под окнами. Бабушка подстерегла девочку и порвала записку. Настя плакала от стыда, но успокоилась, увидев, что бабушка не считает это происшествие преступлением. Молчанова понимала, что от любви не уйти, – просто не следует торопиться: пусть выучится себя контролировать. Впрочем, этой способностью, как вскоре выяснилось, не обладала даже мать Насти: история, которая произойдёт по её вине, разрушит семью.
Судьба Марии Ивановны, матери Насти, была непростой: из семерых детей она потеряла четверых. Дом, который так часто посещала смерть, Марии Ивановне опостылел. Когда на любительском спектакле на неё обратил внимание князь из Рюриковичей, любимец Александра II, она открылась ему всем сердцем. Ей было двадцать шесть, ему – вдвое больше. Их роман превратил жизнь семьи в руины. Узнав об измене, её муж Алексей Зяблов повёл себя благородно – предложил матери развод. Но Мария Ивановна не хотела покидать детей. Договорились, что она отправится в путешествие, где примет взвешенное решение. Проведя два месяца в Финляндии, мать вернулась и сообщила, что решила остаться в семье. А ещё через месяц её наперсница, знакомая князя, сообщила, что негодяй, в любовь которого она безоговорочно верила, всё это время добивался любви одной недалёкой немочки – и в итоге добился. Сердце матери было разбито: она сообщила князю, что разрывает отношения с ним. Тут произошло неожиданное: князь примчался к ней в дом и… плача, стал умолять Зяблова убедить жену остаться с ним: «Не могу жить без Marie!» Отец взял новую планку благородства, пообещав: «Извольте, я всё передам. Но не надейтесь, Машенька не простит». Так и случилось. Когда Настя чуть подросла, мать часто рассказывала ей о своей «единственной любви», и девочка усвоила: ничего страшного в таких историях нет, ну помучаются все немного, а в итоге всё закончится хорошо. Впрочем, заново разжечь пламя в семейном очаге не вышло. Отец не жаловался на перенесённое унижение, не обвинял супругу, просто пошёл раз на реку с сыном Лёлей, сел на берегу и стал мылить голову – и вдруг лёг на спину и уставился в небо остекленевшими глазами. Его привезли домой. Перед смертью он пришёл в чувство и посмотрел на жену. Та закричала, звала его, но он лишь молчал в ответ. «Последняя их встреча была немая», – скажет потом писательница. Она этого, правда, не видела: приехала из московского пансиона, а отца уже схоронили.
В пансионе весёлого было мало: тяжёлые двери, замазанные извёсткой окна. Начальница пансиона, некогда красотка-фрейлина при императорском дворе, отыгрывалась за погибшую молодость: среди ночи подымала постель в дортуарах, придираясь к состоянию белья. Девушки спасались в удушливом воздухе пансиона как могли – влюблялись в преподавателей, дерзили, сумасбродничали. Однажды инспектор, нестарый ещё человек, собрал воспитанниц и, горько плача, сказал: «Дети! Вышла в свет книга, ужасная, позорная… Написал её некто Дарвин. По его учению, мы, люди, произошли от обезьяны! От о-безь-я-ны!» – и ушёл, рыдая. Барышни стояли как громом поражённые, а у Насти рождалось в сердце чувство чего-то нового, что скоро придёт и переменит её жизнь. Она раздобыла Дарвина и прочла, записывая цитаты и свои мысли по этому поводу.
После смерти отца семейства Настя даже не смогла завершить образование. Уроки музыки давали копейки, но вскоре девушка открыла новую стезю – знакомые студенты-социалисты заинтересовались набросками из жизни, которые она писала от скуки, и свели её с журналистами «Русского курьера», где она начала публиковаться. Писала на острую тему – о женском вопросе: в России народилась целая армия девушек, не собиравшихся замуж, а желавших – как чеховские три сестры – работать, работать и работать. Вербицкая решила прославить этих честных, умных барышень в своих повестях, уже первые из которых принесли ей бешеную славу. Ещё бы! Она затрагивала самые запретные, интересовавшие всех темы. Вот барышня, которой родители навязывают замужество с нелюбимым человеком, а она хочет учиться на врача и приносить пользу обществу. А вот женщина, которая вынуждена добиваться у постылого мужа-шовиниста развода, чтобы воссоединиться с любимым. А вот просвещённые девушки-дарвинистки, которые смеются над церковью и борются против домостроевских норм семейной морали! Особенно прогремела по России повесть «Ключи счастья». Героиня, талантливая воспитанница пансиона, красавица Маня, выбирала между графом Нелидовым, из Рюриковичей, и бароном Штейнбахом – двумя прекрасными, благородными людьми: один жертвует тысячи рублей в помощь арестантам, другой – просвещённый эконом – превращает принадлежащие ему русские деревеньки в образец немецкого изобилия. Будучи влюблена то в одного, то в другого, Маня сохраняет верность себе самой – женщина должна жить не подачками аристократов, а честным, созидательным трудом. Читательницы следили за перипетиями любовного треугольника, читатели жадно ловили реплики героев о том, как нам обустроить Россию. Прогрессивные критики увидели в Мане едва ли не российскую Жанну д’Арк – гляди-ка, на равных общается с мужчинами, сыплет цитатами из Маркса! Интерес к повести достиг апогея с выходом второго тома, когда любовный треугольник превратился в четырёхугольник – Маня забыла графа и барона ради садовника Яна, который оказался скрывавшимся от полиции анархистом. Здесь сюжет обрёл новое измерение – Ян преподал героине науку правильного отношения к любви. «Есть только одна измена, Маня. Измена самому себе, – объяснил героине Ян. – Если вы нынче разлюбите меня, а завтра полюбите другого, не считайтесь с моими страданиями! Если вы утром целовали мужа, а вечером желание толкнёт вас в объятия другого, повинуйтесь желанию. Ваше тело, ваши чувства, ваша жизнь принадлежат вам одной!»
Призыв к свободной любви, которую проповедовали герои Вербицкой, заставил консервативных критиков скрежетать зубами: «Эта блудливая кошка – это и есть современная женщина? Это она – внучка тургеневских девушек, дочь Анны Карениной? Тогда мы и впрямь идём к одичанию и вот-вот обрастём шерстью и, помахивая хвостами, убежим в леса». Но, как это бывает сплошь и рядом, критика лишь умножила число читателей и почитателей. Вербицкая, купавшаяся в лучах славы, снисходительно напоминала, что она самый читаемый автор в народных библиотеках, а значит, самый народный, самый прогрессивный. «Жаждущие Красоты идут за ищущим», – скромно поясняла она причину своего успеха. Её славили и либералы, и социалисты. Прогрессивный публицист Додонов даже выпустил целую книгу, где доказывал, что Вербицкая лучше Толстого – и острей, и честнее, и доступней для рабочего класса.
Был в критике один звучащий диссонансом голос. Он принадлежал Корнею Чуковскому. Детский писатель на новую мораль не нападал – его больше интересовал стиль. «Бешеные прыгающие зрачки», «Ужас затопил её мозг ледяной волной», «Эти буквы обжигают её». Сверкают, пылают, вспыхивают – вот какие герои у г-жи Вербицкой. Не люди, а ракеты какие-то!» От высмеивания штампов, усеивающих книги писательницы, Чуковский переходил к сути: книги Вербицкой – это чистой воды натпинкертоновщина, популярное и глупое чтиво для парикмахеров и лакеев вроде «Трёх любовниц кассира» или «Мертвеца-отмстителя». Но если любовницы и мертвец не притворяются большим, чем есть на самом деле, то Вербицкая ту же бульварщину продаёт под видом серьёзной литературы. «Какие уж там идеи! Была бы беседка да вздрагивали бы ноздри у героев – и всё тут». Королева оказалась совершенно голой и при этом ни капли не привлекательной!

Но массовый читатель к увещеваниям остался глух. Тиражи произведений Вербицкой ставили рекорды: одни «Ключи счастья» были напечатаны тиражом триста тысяч. Идя навстречу пожеланиям поклонников, Анастасия издала увесистую автобиографию «Моему читателю», где рассказывала о событиях, превративших её в гениальную романистку. И вот тут-то она сделала промах. Автор «Нового Сатирикона», сатирик Не-Буква, прочёл книгу – и выдвинул гипотезу: а не сочинила ли писательница и свою жизнь с той же лёгкостью, как сочиняет свои повести? Мир, описанный Вербицкой в автобиографии, столь же небывал, как и мир её книг. Бабушка – культовая провинциальная актриса? Но в Воронеже никто её не помнит. Князь из Рюриковичей? Кто именно? Нет, недаром Вербицкая напустила такого туману вокруг его личности. Удивительные подруги, гениальные преподаватели пансиона – разве всё это бывает в жизни? Вокруг сплошные таланты! Но даже во времена дикой популярности Вербицкой в друзьях у неё не было никаких гениев. Никто из её знакомых не остался в истории. Да и сама она – не вымысел ли? В автобиографии жизнь писательницы состояла из необыкновенных романов: «Когда мне было семнадцать лет, в меня влюбился турок Мустафа». Но в действительности никаких ярких романов у Вербицкой не наблюдалось. Был ничем не выдающийся муж, давший ей свою фамилию. Она, конечно, его быстро покинула (не для того ли и выходила, чтобы покинуть?), бросилась к одному, другому. Жаждала слёз, объяснений, надрывов: «Я люблю вас, но не могу с вами быть, потому что люблю другого! Впрочем, я не люблю и его – мои душа и тело принадлежат России!» Но муж легко оставил её: скучны такие истории здравомыслящему человеку, господа. И князей не было, и баронов не завезли. И даже революционеры были какие-то второстепенные. Эх, кабы Ленин, кабы Троцкий! Но она только в книгах могла позволить то, чего хотела в жизни. Она и вправду была селф-мейд-вумен – выдумала себя от начала до конца.
Революцию Вербицкая приветствовала: нако-нец-то брошенные ею семена взошли – борцы со старым бытом провозглашали, что в коммунистическом обществе удовлетворить половое чувство должно стать не сложней, чем выпить стакан воды. Но большевики Вербицкую не приняли. Они-то вполне сознавали правоту Чуковского: «новый человек», которого они собирались создать, не мог воспитываться на мелких страстишках. Наркомпрос постановил изъять книги Вербицкой из библиотек и сжечь с формулировкой: «за порнографию, юдофобство и черносотенство». Ничего из перечисленного в её повестях, разумеется, не было, но как можно было объяснить людям, что даже общество «Долой стыд!» не было и вполовину таким пошлым, как эти книги? Рассказывают, что Луначарский решил лично поехать к Вербицкой и упросить не писать новых книг, – в обмен мы не станем запрещать старых. Но Вербицкая с гневом отвергла предложение наркома: сейчас, когда женщины в двух шагах от полной свободы, она хочет писать о новом строе, новой жизни! Писательница сделала сильный ход – потребовала гласного суда над собой. Комиссия из писателей-коммунистов в течение трёх месяцев штудировала все тридцать три её повести – и положительно ими зачиталась! В результате суд её полностью оправдал. Правда, после гибели Воровского Госиздат своё решение поменял – книги запретили. Но ведь никто так и не запретил писать ей новых! Почему же она не воспользовалась этим шансом – так и не написала о советской жизни? Видимо, и сама она ощущала себя живым анахронизмом – в мире, где графы и князья стали обычными гражданами, ей стало не о чем писать. Она ничего не могла придумать героиням, кроме старой как мир мечты о прекрасном принце, – как когда-то Шарлотта Бронте, начавшая протестом против общества, а в итоге выдавшая героиню за графа-садиста. Вербицкая заболела – и умерла. В 90-е годы, среди прочей «возвращённой литературы», в России переиздали и книги Вербицкой. Они сразу принесли издателям убытки: никому не были интересны. Появились современные бедные Насти, Пьеры и Наташи, «про графьёв» – их читали, а Вербицкую нет. И идейная, с направлением, дамская литература тоже появилась. И – о диво! – со знакомыми сюжетами. Автору этих строк несколько лет назад попался в руки рассказ Улицкой «Сын благородных родителей» – о сильной женщине, которая рожает ребёнка от какого-то гениального учёного, а муж, невзрачный человечек, принимает дитя как своего. Сверкая очами, автор отбросил эту книгу, словно она жгла ему руки. Открыл повесть того же автора – и там жена рожает от красавца, а плюгавый муж принимает. Открыл повести двух известных писательниц – что за чёрт! И снова тот же сюжет! Потом вспомнил факт, вычитанный у зоологов: у многих самок млекопитающих стратегия – родить ребёнка от доминантного самца и подсунуть его самцу попроще, который рядом, – пусть обеспечивает, доверчивый доходяга. Нет, правы всё-таки эволюционные психологи: многое из того, что люди облекают в высокие слова, – плод глубиннейших, пещернейших инстинктов. Как, вероятно, и наша неутомимая страсть писать книги.
Живые мертвецы против мёртвых душ
 Одоевский - отец мертвецов-отмстителей
Одоевский - отец мертвецов-отмстителей
Если Вербицкая была пошлой мелодраматичкой, а Хвостов откровенным графоманом, то третий наш герой – птица совершенно иного полёта. Спроси любого русского читателя в 30-е годы XIX века, кто всех сильнее в прозе, он непременно ответил бы: конечно, Владимир Одоевский. Это потом публика распробовала пушкинскую прозу, это потом появился Гоголь со своими «Мёртвыми душами». До этого Россия зачитывалась Одоевским – кстати, настоящим князем из Рюриковичей. Всё как полагается – с тонкими ноздрями и бледным челом. В юности был он «архивным юношей» – сотрудником Московского архива Коллегии иностранных дел. Место службы многое говорило о складе ума: богатые дворяне, которых Павел I лишил возможности записывать своих чад на военную службу младенцами, нашли для них отличную и вовсе не обременительную разгонную ступень карьеры. Архивные юноши, которым в будущем светило дипломатическое поприще, отличались знанием иностранных языков и редкой образованностью. А также абсолютной отвлечённостью от жизни – юный князь зачитывался Гофманом и Шеллингом и его не волновали ни крестьянский, ни женский вопрос, ни даже собственный титул. Его предка, князя Михаила Черниговского, монгольские жрецы некогда попытались заставить прыгать через очистительный костёр перед шатром Батыя – чтобы доказать, что у него нет злых помыслов. Князь, истый христианин, отказался играть в эти языческие классики, за что был замучен, а впоследствии причислен церковью к лику святых. Случись на месте Одоевского любой другой, он кичился бы столь славной родословной, но князь был равнодушен к подобным вещам. В отличие от предка он увлекался мистикой: в его рассказах вереницами ходили все эти мертвецы-отмстители, которые через сто лет превратятся в симптом пошлости.
В отличие от Хвостова князь умел читать свои произведения – его умное лицо и живой слог составили ему славу «русского Фауста». Во время литературных вечеров в его доме дамы падали в обморок и даже видавшие виды офицеры задумывались: придумает же такое. Вот женщина попадает в волны Невы и едет верхом на гробе своего возлюбленного. Вот турок крадёт голову легкомысленной барышни и выставляет её в магазине безделушек. Вот светский повеса видит во сне, будто умер, – и следит с небес за дурными последствиями дел своей земной жизни. Во всём этом легко узнать подражание Гофману. Это ещё не было русской литературой – и не могло быть великой.
Гостеприимный хозяин, он увлекался наукой и всегда держал посреди стола поднос со стоящими на нём соусами, которые он лично готовил из химических веществ. Надо сказать, эта молекулярная кухня удручала гостей так же, как некогда стихи Хвостова его знакомых. Но Одоевскому прощали всё – он был прекрасным собеседником и интересным мыслителем. В вину ему можно было поставить разве что качество, которое осудил ещё Иоанн Богослов: князь был ни холоден, ни горяч. Его двоюродный брат Александр Одоевский стал декабристом, после восстания на Сенатской площади был сослан на каторгу сперва в Сибирь, потом на Кавказ. Здесь пылкий юноша сдружился с Лермонтовым и умер от малярии за два года до роковой дуэли в Пятигорске. Владимира многие обвиняли в трусости, но он только отвечал: я не вижу смысла в том, чтобы ниспровергать короны. Он был сторонником постепенных реформ – редкое качество в русском человеке. Служа цензором, сделал немало для разрешения запрещённых журналов, где печатались начинающие авторы, чьи книги потом и станут русской литературой. Одним из немногих он вступился за «Горе от ума» Грибоедова, одним из первых приметил Гоголя. Те, кому он помог выйти в люди, кстати, зачитывались его «Русскими ночами» – первым в истории России философским романом. Главным героем в котором, кстати, был не кто иной, как Фауст.
Это был пик – дальше его литературная и философская популярность быстро пошла на спад. Российская словесность резко поменяла русло: на смену мистике пришел реализм – записки охотника, страдания крестьян и терзания лишних людей. Ожившие мертвецы быстро упокоились в своих могилах, ожидая, пока их снова извлечёт на свет божий автор «Трёх любовниц кассира». Если мерить точной меркой, литературная судьба Одоевского прискорбна: от него вечности досталась всего одна короткая повесть, и та для детей, – «Городок в табакерке». Всё остальное читают разве что специалисты. Но Одоевский не переживал о своём внезапном забвении, не терзался поиском своего места в литературе и жизни. У него и так было всё: титул, богатство, положение в обществе. Он благополучно дожил – страшно подумать – до 1869 года: давно были в могиле Пушкин, Лермонтов, Гоголь, давно уже взошли над Россией звёзды Достоевского, Тургенева и Льва Толстого. А Одоевский совершенно анахронистическим слогом рассуждал о последствиях отмены крепостничества, размышлял об американской революции с позиций давно забытого мальтузианства. Но это не делало его смешным, как Хвостова. Он был равен самому себе и не претендовал на большее. Его воспринимали как старого чудака, но уважали. Он был тот самый заурядный, с тонкими ноздрями князь из мечтаний Вербицкой. Он даже сыпал цитатами… нет, не из Дарвина и Маркса – они тогда ещё в моду не вошли – из Шеллинга и Гегеля. Он прожил с женой, искренне любившей его, долгую и счастливую жизнь. И стал последним князем Одоевским – детей у пары не было.
Не странно ли, что мы воспринимаем привычку писать как порок, оправдать который можно разве что талантом (правда, и самому гениальному автору достанется даже после смерти)? Мы несправедливы к тем, кого Бог обделил способностями: ведь графоманы помогают нам самим ощущать бег времени, проводить границу между актуальным и устаревшим, умным и смешным. Когда то, что ещё недавно было модным, превращается в анекдот, мы чувствуем рубеж эпох. Многие вирши Хвостова ничуть не хуже стихотворений Сумарокова или Кантемира. Беда лишь в том, что в XIX веке так уже нельзя было писать. У Одоевского, не заслужившего репутации графомана, хватило сил примириться со своей старомодностью, у Хвостова – нет. И точно так же помогают нам лишённые больших талантов писатели чувствовать грань между оригинальной мыслью и пошлостью – когда уходящее время забирает модные идеи, которые давало в аренду, от многих книг остаются разве что тонкие ноздри, мистические рожки да чьи-то прелестные ножки.

























