
*
Утопии задумываются как наиболее разумная организация бытия; следовательно, первая задача утописта – самому стать примером организации.
Речь идёт не о подвиге, но о рабочем графике. Человек, как утверждал Эразм Роттердамский, лишь возможность; недостаточно родиться, надобно воспитать в себе человека. Такие люди возводят себя кропотливо как собор, собирают свою конструкцию по деталям. Знание многих языков, прилежность в ремёслах, расписание занятий. Эразм в преклонные годы изучает греческий, старик Толстой – иврит, прославленный Гёте занимается физикой. Впору спросить: вам что – уже известного мало? Они считали, что должны понять весь мир, чтобы построить другой – лучший.
Учителя человечества, хоть и смертные существа, становятся своего рода историческим проектом. Обдуманно строили биографию, ни одного пустого дня, ни единой зря истраченной минуты.
Строительство человека рассчитано на годы – в нашу эпоху укороченной информации трудно вообразить, что роман (собор, воспитание, образование) можно создавать десятилетиями. Религиозный мыслитель Честертон язвительно заметил (в статье о Диккенсе): «Одни любят жизнь и длинные романы, а другие любят смерть и короткие рассказы». Действительно, гений, как правило, стремительно испепеляет оболочку, принявшую его. Трудно выбрать в качестве образца для биографии Ван Гога или Байрона, Боттичелли или Маяковского. Пушкин, Есенин и Рембо – великие творцы, спору нет, но жизнь их подвластна страстям времени.
Мудрецов, таких как Гёте, Эразм, Платон, Толстой, Микеланджело, Леонардо, сумевших изменить сознание поколений и сохранивших при этом олимпийское спокойствие, – немного. Их долгая жизнь есть демонстрация того, как может быть организовано существование одного и, через отдельную жизнь, всего людского рода.
Каждая из биографий – самодостаточная утопия, фундаментом которой служит отрицание своего времени.
Им не избежать упрёков в лицемерии; так, общим местом стали упрёки Толстого в ханжестве (помещик и артиллерийский поручик в молодости был повесой), Гёте – в филистерстве (министр избегал страстей, его брак был тайной для всех, он предпочитал уединение и комфорт), Эразма – в поисках компромисса (латинист и книжник не пожелал принять участие в религиозных распрях и, несмотря на спор с Лютером и на поддержку Мора, не хотел ни открытой борьбы, ни участия в горестной судьбе; любил покой). Справедливы упрёки или нет, но невозможно отрицать, что выстроенный образ жизни способствовал работе – эти люди сделали вдесятеро больше любого среднеарифметического творца.
Каждый из них осознавал себя (нескромно, но безошибочно) ответственным за весь мир разом; их отношения с миром шли поверх отношений с собственным государством, нацией, классом. Все они так или иначе оказывались в изоляции: Эразм покинул Голландию и никогда не возвращался, писал на латыни, заменившей родной язык; Гёте и Микеланджело меняли государства постоянно, благо в Германии и Италии княжеств было много; Толстой поселился в Ясной Поляне, удалённой от столиц России не менее, нежели место изгнания Данте от Флоренции. Представляя собой как бы автономное государство, они вступали в личные отношения с правителями. Так, отношения Эразма с Генрихом Восьмым, Гёте с Карлом Августом, Леонардо с Франциском Первым, Микеланджело с папой Львом Х, Платона с Дионисием Сиракузским были не подобострастными, но отношениями равных: творцы искали точку опоры, чтобы перевернуть землю, но не находили. Странные отношения с земными владыками и ещё более странные с Владыкой Небесным – практически никто из этих людей не избежал подозрения в безбожии. Толстой был отлучён от церкви, агностицизм Леонардо очевиден, споры Микеланджело с папой известны, а Гёте, сделавший центральным персонажем Дьявола, – сомнительный христианин.
Впрочем, строительство величественного собора частенько приписывали потусторонним силам. Известна германская присловка: «Не дьявол ли построил Кёльнский собор?» Имеется в виду то, что Кёльнский собор строился в течение восьмисот лет, сохранить единство плана на восемьсот лет вперёд под силу лишь чёрту. Что же сказать о людях, которые возводили себя самих как собор, вопреки окружению? Мы часто используем выражение «возрожденческая личность», имея в виду политалантливость, но прежде всего «возрожденческая личность» – это человек, отменивший время, построивший мост от античности к Средневековью, от Возрождения к Просвещению, человек, отрицающий данность момента. Отменить время означает вступить в иную, не опосредованную связь с иными мирами; и Леонардо, и Микеланджело, естественно, подозревали в контакте с потусторонними силами.
Когда Гёте взялся за старинную легенду о докторе Фаусте, продавшем душу Дьяволу, он быстро осознал, что пишет собственный портрет: мудрец постиг всё, и ему не хватает главного, чтобы перевести знания в иное качество, сделать их орудием строительства новой жизни. Ради того главного, что мудрец не в силах определить словами, можно и душу отдать. Главное – не знание само по себе; главное – это преодоление предопределённости. Трагедия «Фауст» открывается отчаянной фразой:
Я медициной овладел,
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил.
Однако я при этом всём
был и остался дураком.
Фауст (он же Гёте, и он же любой из учителей человечества) столкнулся с тем, что умножение знаний (а знания необходимо ежедневно множить!) не обучает главному: как одно знание сопрягается с другим – ведь это тот же самый закон, который описывает связь людей, не так ли? И как же организовать жизнь людей разумным образом, если нет философского камня – так алхимики именовали связующее субстанции звено познания. Всё выучил, а главного не узнал.
Кто-то позвал на помощь науку историю, кто-то выдумал собственную религию, кто-то стал алхимиком. А Фауст вызвал Дьявола. Без сверхъестественных, потусторонних сил задачу устроения счастья человечества не разрешить. Фауст начертил магический знак, и явился дух.
**
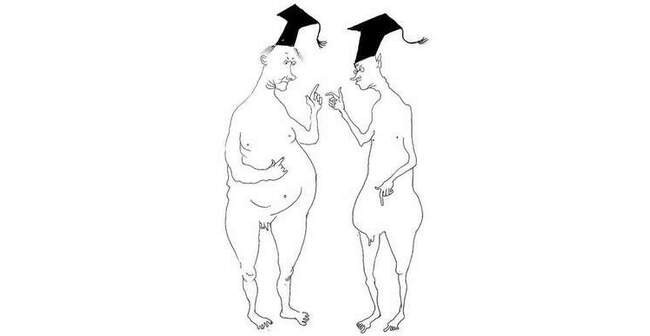
Так называемая эпоха Возрождения в Италии занималась тем, что сопрягала античность и Средневековье, у эпохи германского Просвещения задача оказалась ещё более изощрённой – соединить время абсолютизма с эпохой Возрождения и, опосредованно, уже и с античностью. Десятки философов, историков, литераторов и музыкантов (Германия XVIII века богата на таланты как никакая иная страна) заняты тем, что присовокупляют всю духовную историю человечества к своей современной. Это гигантский утопический проект: знание управляет временем. Прикажет разум – и время потечёт вспять, что там поворот сибирских рек! Мы сегодня знаем, что эпоха Просвещения, которая должна была сотворить Золотой век благодаря синтезу всех знаний, закончилась обширной колонизацией Африки – и была похоронена в Первой мировой войне.
Однажды Гегель ненароком
И вероятно наугад
Назвал историю пророком,
Предсказывающим назад.
Предсказать назад – значит объяснить то, что непонятно в исторических закономерностях. Померещилось, что построить государство мечты можно, но утопия потому и утопия, что неосуществима. История – наука разочарований, и Пастернак написал эти строки в те годы, когда очередные прожекты обернулись катастрофой.
Слова Шлегеля: «История – это пророк, предсказывающий назад», – Пастернак приписал Гегелю, но высказывание относится ко всей немецкой философии разом – и к Гегелю, и к романтикам, и к Освальду Шпенглеру, которым во времена Пастернака зачитывались все.
Книга «Закат Европы» Шпенглера после Первой мировой завладела умами: искали причины войны. Строили, производили, сочиняли – всё было так прекрасно. Так откуда пришла беда? И Шпенглер (так казалось) всё объяснил: цивилизации Европы пришёл конец – иссякла сила созидания.
Шпенглер ввёл специальное определение для созидательного духа Запада – он назвал эту, типично европейскую, тягу к свершениям «фаустовским духом». Вот этот самый «фаустовский дух», который двигал доктором Фаустом и который вызвал Дьявола, утратил привычную силу, считал Шпенглер.

В самом деле, существует присущая европейским народам неумная страсть к расширению территорий и знаний, отличающая европейские народы от иных народов. Скажем, Китай отгородил себя от внешнего мира стеной; Африка не делала попыток расширить влияние в мире; орды монголов приливали и отливали подобно океану, но не осваивали завоёванных земель; но Европа поступательно и неуклонно захватывала новые пространства. Африка, Индия, Америка, Восток – всё надо узнать и, по возможности, приспособить к своим интересам. (Ср. с неистовой страстью доктора Фауста к познанию.) Мир стал европейским. После победы при Лепанто (Османская империя была сокрушена в 1571 году) победоносный шаг «фаустовского духа» был уже неостановим. И вдруг война: европейские народы стали истреблять друг друга.
Шпенглер назвал страсть к покорению пространств «фаустовским духом» по имени легендарного персонажа германского фольклора, имея в виду, конечно, не дух средневековой легенды, но пафос драмы Гёте – воспевшей неостановимое движение духа. В драматической поэме «Фауст» переплелось всё: античность, Средневековье, Просвещение; Гёте писал «Фауста» как финальное объяснение европейской истории. По условиям договора с чёртом кульминация сюжета должна наступить тогда, когда Фауст воскликнет: «Остановись, мгновение, ты прекрасно». После всего, что было с европейским миром, после Афин и Флоренции однажды мировой дух познает сам себя.
Гёте фактически проиллюстрировал концепцию Гегеля: мировой дух шествует по странам и временам, ищет идеальное воплощение для себя; когда дух познает сам себя (то есть полностью воплотится в конкретное деяние) – на этом и завершится история. Что же может вместить мировой дух совершенно полностью? Ответ очевиден: должно возникнуть мировое государство, христианская монархия, Град Божий, спроецированный на землю.
Гёте, Гегель и Наполеон жили в одно время, и всех троих занимала одна и та же проблема: все трое попытались обосновать единство исторического замысла; мир не может оставаться раздробленным – кто-то должен всё объединить. Концепция единого христианского мира (в политическом прочтении – концепция Священной Римской империи) для гуманистического мыслителя более существенна, чем для политика: единство замысла определяет первенство морали. Наполеон попробовал объединить европейский мир оружием и волей; Гегель – единой концепцией мирового духа, понятого как движение истории; Гёте искал субстанцию, способную скрепить всё воедино. Гёте искал точное слово.
Фауст, сидя над текстом Пятикнижия, ставит вопрос о первичности единого замысла – формулирует вопрос с новой силой, так, словно в Библии не содержится ответа: «В начале было Слово». Для Фауста такого ответа недостаточно.
Ведь я так высоко не ставлю Слово,
Чтоб думать, что оно всему основа,
В начале Мысль была! Вот перевод.
Он правильнее стих передаёт.
Попробую, однако, чтобы сразу
Не погубить работы первой фразой.
Могла ли мысль в сознанье жизнь вдохнуть?
Была в начале Сила – вот в чём суть.
Но после небольшого колебанья
Я отвергаю это толкованье.
Я был опять, как вижу, с толку сбит.
В начале было Дело, стих гласит.
Два героя поэмы «Фауст», сам доктор и вызванный им Дьявол (а провокатор Мефистофель – отнюдь не проходной герой поэмы, но ассистент строительства утопии), ведут постоянный диалог, выясняя, из какого материала строить идеальный мир. Учёный строит мир из конвенционального знания (то есть такого знания, которое доступно посвящённым), церковь строит мир на основе конвенциональной морали (то есть правил, принятых в кругу паствы), конвенция на убеждения объясняет наличие партий, классов, корпораций, стран; но очевидно, что род человеческий не описывается ни одной из конвенций. Мефистофель предлагает разрушить конвенции – нарушить ход времени, отменить торжество науки, объявить мораль необязательной.
На кухне у ведьмы Фауст пьёт зелье, выводящее его из корпоративных соглашений действительности. И, удивительно, когда привычные конвенции рушатся, мир не перестаёт существовать. Можно любить, рассуждать, строить – вне конвенций. Для Мефистофеля разрушение договоренностей – корыстный план: Фаусту предстоит выстроить идеал вне христианства; едва идеал будет достигнут, как душа Фауста достанется ему. Конец истории, таким образом, есть торжество Дьявола. Такой диалог мог бы вести Гегель с Наполеоном, если бы их мимолетная встреча в Йене (Гегель увидел императора в окно и был поражён его величием) увенчалась разговором. Гёте, разумеется не имел в виду ни конкретного Гегеля, ни конкретного Наполеона; он был старше обоих и чувствовал себя мудрее (и как философа предпочитал Шеллинга), но он точно передал страсть к присвоению мира – как познанием, так и оружием.
Поэма «Фауст» названа самим её создателем «трагедией», но вряд ли данный жанр исчерпывает характеристику книги, которая писалась десятилетиями и не имеет прямой фабулы, в этой драматической поэме нет чётко выстроенного сюжета. Сюжетом является поиск мирового единства. Драма учёного, заключившего договор с Дьяволом, описывается в предшествующей литературе (включая средневековые фаблио, трагедию Кристофера Марло, пьес Николаса Ленау и Людвига Тика) достаточно просто, сюжет этой драмы известен. Если дать себе труд прочесть обе части поэтической драмы Гёте, трудно счесть произведение трагичным. Первая часть заканчивается горько, вторая, напротив, – мажорно, а точнее сказать, вообще никак не заканчивается – финал драмы размыт.
Многие люди составили представление о «Фаусте» Гёте на основе первой части и видят в сочинении трагедию. И верно: согласно традиционному представлению греков, первая часть – именно «козлиная песнь» (то есть трагедия). Как и положено трагедии, всё плохо заканчивается. Но целое произведение заканчивается хорошо: герой нашёл то, что искал! Гёте затруднил линейное понимание не только второй, очевидно запутанной части поэмы, но и первой её части, поскольку без второй понять первую часть нельзя: первая часть рифмуется со второй. И эти сквозные рифмы обескураживают: то, что казалось дурным в первой части, оборачивается благом.
Маргарита гибнет, но женой Фауста становится Елена Прекрасная – та самая, из троянских легенд; есть от чего растеряться. Так, стало быть, профессор утешился? Но тогда термин «трагедия» явно не годится. Читатель может ограничиться чтением первой части, но это будет равнозначно тому, как если в романе «Война и мир» читать лишь описание военных событий или в «Божественной комедии» прочесть часть «Ад», оставив в стороне то, что происходит в Раю. Произведение «Фауст» сложное, и сложность его заключается в методе, соединившем несколько жанров и даже несколько сюжетов.
Это обстоятельство нужно подчеркнуть особо. В драматической поэме «Фауст» несколько сюжетов, история с Маргаритой – один из них.
В мировой литературе существует несколько монументальных творений, поразительных не только важностью высказанной мысли, но также объёмом сочинённого материала, обилием информации, содержащейся в книге. «Божественная комедия», «Дон Кихот», «Гаргантюа и Пантагрюэль», подобно «Фаусту», писались долго, годами, писались дискретно. Автор, создавая такую громаду, поневоле возвращается к уже сделанному, переписывает, уточняет. Поразительно то, что авторы этих монументальных сочинений, возвращавшиеся порой к тексту после значительных временных интервалов, сохранили единство интонации и общий строй произведения.
В отношении «Фауста» сказать так затруднительно.
«Фауст» – книга, написанная в разных жанрах, с разными интонациями и даже с разными речевыми характеристиками. Иногда кажется, что перед нами десять книг того же автора, условно связанных героем. Такие произведения тоже существуют. Кстати сказать, именно в современной Гёте литературе эпохи Просвещения популярен был так называемый «роман-воспитание», описывающий путешествия и жизнь героя, его перемещение из города в город, из страны в страну. Характерный пример – «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Стерна, коим Гёте увлекался; и сам Гёте отдал дань роману воспитания в «Вильгельме Мейстере». В некотором смысле «Фауст» тоже написан в жанре «романа-воспитания», поскольку герой перемещается из страны в страну и (что неизмеримо важнее!) из эпохи в эпоху, постепенно обретая и уточняя свою собственную сущность. Это и есть единственный общий, сквозной сюжет драматической поэмы, а именно: обретение человеком цельности личности путём преодоления времени.

Сам Гёте, совершенно этого не стесняясь, говорил, что одним из фрагментов своего произведения он обязан влиянию Шиллера, другим – даже влиянию Эккермана (сколь ни щедро такое заявление, сказанное в частной беседе с секретарём Эккерманом, в словах старого писателя нет лукавства, напротив – равнодушная честность). Гёте сам, без того, чтобы его в этом уличил литературный критик, признавал влияние Шекспира, Стерна, Голдсмита. И действительно, сцена в кабачке Лейпцига из первой части напоминает сцены из шекспировских пьес, в финале трагедии лемуры своим пением фактически пародируют могильщиков из З-его акта «Гамлета», а прообраз филистера Вагнера и его интонации легко найти у Стерна. Гёте дописал театральное вступление в трагедию, фактически копируя индусского драматурга Калидасу, ставшего популярным в те годы. Гёте не стеснялся влияний, более того, не стеснялся даже заимствований (ср. фразу Пикассо: «Я беру своё там, где его нахожу»), и, если в первой части мы слышим то интонацию Шиллера, то интонацию Шекспира, то во второй части на ум приходит целый сонм греческих авторов; и дело не только в метрике. Скажем, сцена во дворце Менелая напоминает порой «Троянок» Еврипида, а отдельные фразы собеседницы Елены – Форкиады заставляют вспомнить Аристофана.
Гёте писал «Фауста» так долго (шестьдесят лет), что фактически единый сюжет произведения подменила сама судьба автора. Судьба Гёте – подлинна. Стало быть, и дневник его судьбы тоже подлинный, а что до заимствований, нестыковок, невнятной связи отдельных эпизодов, так это соответствует поворотам биографии, которые имеются в каждой судьбе. Жизнь в конце концов доводит самый противоречивый сюжет до точного финала, сколь бы сюжет ни был запутан.
Не будь античной части, книга не соответствовала бы своему создателю. Дело в том, что Гёте по всему своему внутреннему складу был натурой классицистической и готику, скорее, не уважал. Известно, например, что Гёте не любил готическую архитектуру и не признавал (подобно Леонардо и Микеланджело, заметим в скобках) готические соборы. Лишь созерцание собора в Страсбурге однажды поколебало его мнение. То, что первая часть поэмы «Фауст» вызывает в воображении образный строй готической культуры, есть безусловная дань традиции легенды и феномену общения с дьяволом, таковое возможно лишь внутри готического текста; но если бы не сопряжения этого готического корпуса поэмы с античной культурой, то общее представление Гёте о Европе и путях Европы осталось бы не проговоренным.
Структура драматической поэмы «Фауст» мозаична, или, как сказал бы сам Гёте, синтетична. Необходимо здесь учесть научные взгляды Гёте, вне которых рассматривать его произведение было бы ошибочно. Гёте – мыслитель синтетический, сопрягающий знания, проецирующий одно знание на другое, дополняющий одно умение другим. То, что ищет Гёте (связующее звено мироздания, «философский камень», как его понимали алхимики), должно проявиться естественным путём, в ходе опытов: Гёте приходит к выводу, что природа и знания развиваются «от узла к узлу», в каждом пункте развития возникает совершенно автономный результат (таковой может быть вызван иными инструментами познания, в частности), и в дальнейшем этот автономный результат становится новой точкой роста. Так, наподобие дерева, растёт постижение мира учёным: от малого знания к другому малому знанию, от узла к узлу. В случае «Фауста», сопрягая различные интонации и культуры, эпохи и стили – сопрягая классику и готику, античную Грецию и Германию Просвещения, алхимию и современную науку, – Гёте ткёт единую личность своего героя, открытого всему.
У поэмы-дневника дискретный, открытый сюжет, плана нет: следование «от узла к узлу», от смысла к смыслу, от точки силы истории к другой точке силы – это и есть стержень повествования. И такой путь выбран ради синтеза явлений. Когда разрозненные явления/соображения/идеи/символы будут скреплены воедино, возникнет общество, воплощающее эйдос. Кажется, что такое невозможно: эйдос – это умозрительная конструкция, общество и государство – это конкретное явление. Однако неоплатоники (от Плотина до Гёте) эйдос представляют зримо, как особую мандорлу, излучающую свет. Мандорлу мы часто видим в иконописи, плывущая пространстве раковина света сама распространяет вокруг себя сноп лучей. Учёный вправе спросить – и Гёте спрашивает устами Фауста: какая энергия, какой элемент мироздания соткал единую форму такой мандорлы? Что за природа света, распространяемая такой мандорлой? Из чего сделана сила единения? Если речь идёт о созидающей внутренней силе (энтилехия, по Аристотелю), то пытливый учёный должен понять, есть ли собственная природа у данной интеллектуальной энергии? И Мефистофель отправляет Фауста к Матерям, прародительницам цивилизации, к силам, воплощающим энтилехию. Фауст приходит к тем, кто воплощает первичную материю бытия – ещё до христианства и даже до античного поли-божия. Оказывается, у мира – женское начало, способное давать жизнь. В этом прочтении сила христианского Бога оказывается паритетной античной концепции творения, подчиняясь силе пантеистической (кто-то скажет: языческой).
Собирательный характер образной структуры трагедии напрямую связан с убеждением Гёте в том, что сама личность человека есть собирательный продукт, личность возникает как конгломерат присвоенного наследия культуры, можно даже сказать резче, употребив термин «заимствования». Это присвоение чужого опыта, пережитого как собственный и вплавленного в свою историю. «Как незначительно то, что мы в подлинном смысле слова могли бы назвать своей собственностью» – эти слова Гёте в полной мере объясняют собирательную природу произведения «Фауст», состоящего из нескольких произведений и уж точно из нескольких жанров. Но ведь это высказывание характеризует и конечную цель поиска: совершенный мир. Утопию мы не можем назвать своей – нам в этом замысле принадлежит лишь кроха. Мы – часть общей концепции бытия.
Длительное описание поэмы Гёте необходимо, чтобы дать представление о замысле утопического строительства: великое единение времён и народов должно соткаться постепенно, соединяя концепции и времена. Утопия, по Гёте, – это синтетический продукт, комбинирующий все знания человечества.
***

Завершается поэма строительной, совершенно утопической симфонией.
И опять-таки утопия европейского Просвещения для Гёте – всего лишь один из многих жанров, сплавленных в большом романе. На протяжении длинного текста Гёте отдал дань трагедии, отдал дань мелодраме, отдал дань «роману-воспитанию», и вот настал черёд утопии.
Гёте вкладывает в уста Фаусту очередной проект европейской утопии – объединить несколько стран и культур водными артериями, создав искусственно те связи, каковые проглядел Господь в устроении планеты (ср. разворот сибирских рек).
Гёте и Фауст оказываются при дворе некоего императора (собирательный образ, характерный для амбициозных государей, тщеславно желающих покорить пространство и не понимающих, что проблема – во времени). Фауст пытается вразумить императора, подобно тому, как Платон пытался обучить Дионисия, а Микеланджело трактовать завет через голову папы.
Но в ходе обучения императора Фауст сам увлекается пространственными решениями. Это – сиюминутное – торжество над перспективой создаёт иллюзию победы. Фауст близок к тому, чтобы построить утопию.
Строительство плотины и перемещение широкой дельты реки, то есть мелиорационные работы, которые затеял Фауст во второй части трагедии, приводят к гибели двух стариков, Филимона и Бавкиды, это, конечно, досадно, но Фауст печалится недолго. Двух реплик на раскаяние хватает – хотя, собственно говоря, стариков убил Мефистофель практически по распоряжению Фауста. Этот эпизод становится в истории европейской культуры символом столкновения патриархального уклада и напора цивилизации, причём симпатии автора очевидно на стороне строительного начала.
Поток, на пути которого стоит домик Филимона и Бавкиды, как образ преобразований цивилизации – образ несколько странный, но образ для Гёте отнюдь не случаен. Управление природой – одна из его постоянных мыслей, и в особенности управление водной стихией. Надежды на преобразования, возникающие в связи с радикально новой водной артерией, посещали Гёте неоднократно – он был увлечён идеей Суэцкого канала, о чём рассказывал Эккерману. Также вдохновлял Гёте проект принца Евгения Наполеона – объединить Дунай и Рейн каналом. Строительство канала Дунай – Рейн, начинавшееся несколько раз и несколько раз срывавшееся из-за плохого грунта, обещало изменить экономический ландшафт Европы. Гёте относился к этому проекту с чрезвычайной серьёзностью.
Глядя на ход работ, воодушевлённый людской суетой, и в особенности их старательностью в выполнении приказов, Фауст наконец произносит желанные, Мефистофелем давно ожидаемые слова: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!» Характерно, что за несколько минут до того, как сказать это, Фауст уже подытожил всё содержание поэмы, вычленил «итог мудрости земной», – и звучит итог следующим образом: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Это – квинтэссенция гётевского сочинения, и, как это часто бывает, финал «романа-воспитания» разочаровывает. Неужели требовалось столько всего увидеть, продумать всю европейскую историю, вернуться во времени вспять и заново прожить античность; неужели требовалось пожертвовать христианской любовью невинной девушки и погубить её саму, её мать и её ребёнка; неужели надо было переступить через патриархальную идиллию двух беззащитных стариков, – и всё ради вот такой, довольно банальной формулы? Эта формула – итог спора Фауста с самим собой, с коего и начинается поэма. В первых сценах доктор Фауст задаётся вопросом, анализируя книгу Бытия: что было в начале? Слово? Сила? Дело? В те часы сомнений он ищет «философский камень» – теперь он знает ответ: в основе миропорядка перманентное строительство, демонстрирующее силу и являющее власть замысла, – такое дело даёт право и на саму жизнь, и оно же освобождает. Это своего рода обобщение всех истин, в коих Фауст сомневался и из которых Фауст тщился выбрать главную. Оказалось, что власть и сила и впрямь первичны, и ведут они ко благу и дают право – такой вот неожиданный компромисс. Те, кто помнит девиз, укреплённый над воротами лагеря смерти в Аушвице («Работа делает свободным»), поймут, что нацистская идеология отнюдь не случайно выбрала Гёте своим учителем.
То, что европейское Просвещение завершается фашизмом, – это, к сожалению, печальный исторический факт; важно, однако, то, что в реальной истории фашизм был преодолён и определён как зло самой европейской культурой – и как раз с позиций кантианского Просвещения. Именно гуманизм Просвещения противостоял фашизму, обличал его. В случае утопии, изложенной в поэме «Фауст», обличения не происходит. Как раз напротив: постигнув наивысшую мудрость существования, доктор Фауст становится как бы неуязвим для Дьявола – конец истории наступил, синтез вещей достигнут, и Мефистофель теряет права над таким деятельным мудрецом, который столь угоден миропорядку, что силы Ада над ним не властны.
Читатель остаётся в растерянности: так утопия была построена или нет?
Великая долгая жизнь мудреца Гёте оставила нам утопическую поэму; и какой вывод можно сделать из этого синтетического повествования – дело читателя. Этой поэмой вдохновлялся Маркс, Третий рейх принял её текст как руководство к действию, но ведь нашлись и такие, кто извлёк гуманистический урок – и сумел встать на пути строительных работ.


























