
Дж. Д. Сэлинджер, автор «Ловца во ржи» (The Catcher in the Rye переведён в России как «Над пропастью во ржи»), сделал то, о чём его герой и мечтал, – он действительно уехал из города и поселился в уединённой местности (городок Корниш в штате Нью-Гэмпшир), в деревянном коттедже, доступ соглядатаям и журналистам туда был закрыт.
Сэлинджер просто не желал никакого присутствия фальши в своём маленьком мире. Простой жизни, как она описана у Дефо в его «Робинзоне Крузо», у Руссо или у Торо, ему оказалось совершенно достаточно. Он прожил в добровольном затворничестве сорок лет: читал, гулял по лесу, беседовал с домочадцами. Прочее оказалось излишним.
Мотивация утопии Сэлинджера исключительно проста: суть в том, чтобы прислушаться к самому себе – услышать и понять, что же ты сам считаешь истинным. Но так внимательно прислушаться к себе нам мешает шум города.
Такой отчаянный рывок – от цивилизации в никуда, в безвестность – совершали некоторые великие. Так поступал Гоген, Стивенсон, Хемингуэй, Сезанн. В своё время великий художник Гойя уехал из Мадрида в глухомань, в горы – там, в так называемом Доме Глухого (Quinta del Sordo), он в одиночестве писал свои чёрные фрески.
Для Франсиско Гойи, придворного художника Эскориала, писавшего королевскую семью каждый день, это был экстраординарный поступок: реакция зрителей и признание публики уже стали биологической потребностью; однако Гойя уехал. В письме в столицу художник написал так: «Для моего жилища нужно немного: краски, стул, кожаный мех для вина и гитара – остальное было бы излишним». И Гоген, уехавший на Таити, и Стивенсон, уехавший на Самоа, могли бы подтвердить, что для жизни, даже для сугубо интеллектуальной жизни, ни балы, ни вернисажи не обязательны.
В конце концов, можно обойтись без общественной жизни. Толстой прожил самый плодотворный отрезок жизни в Ясной Поляне, далеко от столичного блеска, а Пушкин обязан болдинскому карантину едва ли не лучшим периодом творчества.
Людям свойственно растрачивать жизнь на пустяки – и никакая борьба с природой на необитаемом острове не отнимает у человека столько сил и времени, сколько забирает столичный этикет и светское лицемерие.
Холден Колфилд, герой Сэлинджера, сказал об этом так ясно, словно его устами говорили люди, много пережившие. Сам-то он подросток, а говорит, как Гоген, или как Гойя, или как Руссо, как опытный человек, отказавшийся от карьеры.
В случае Холдена Колфилда карьера – это всего лишь учёба в престижной школе, требуемый минимум для вхождения во взрослую жизнь. Но Холден не способен и на эту малость. Холден с болезненной отчётливостью отмечает в окружающих то, что философ Кант характеризовал как несоответствие явления и сущности: названия вещей и их смысл, декларированные социальные роли и реальная деятельность, манера поведения и спрятанный расчёт – не совпадают.
Холден Колфилд подобно дочери короля в одной из сказочных пьес Шварца не может мириться даже с малой неправдой – ту принцессу чуть не свело с ума, когда её папа, король, велел передать, что его нет дома, в то время как он дома был. Мы все привыкли к тому, что общественная жизнь – это череда условностей и взаимных договорённостей, социум – это игра и соблюдение стереотипов. Проще соблюдать взаимную договорённость, нежели проявлять принципиальность в мелочах. Так общество делает ради самосохранения – требуется небольшой обман, ради того, чтобы сохранить баланс отношений.
Мы говорим «здравствуйте» подлецу, хотя и не желаем ему здоровья; говорим «до свидания», даже если не хотим больше видеть человека, с которым прощаемся, – это всё мелочи этикета, который не надо трактовать буквально. Это мелочь, но, раз согласившись с одним допущением, соглашаешься и с другим – наша реальность состоит из многих допущений, из таких мелочей ткётся общая фальшивая жизнь. Мы голосуем за депутата, хотя не верим ни одному слову в предвыборной программе; мы миримся с социальными несправедливостями, зная, что на борьбу с ерундой может уйти вся жизнь, а ведь сил жалко.
Из привычных неточностей и фальшивых пустяков однажды вырастает огромная неправда, огромное непоправимое зло. Мы все знаем, что именитый начальник глупее подчинённого, что налоги с мирной жизни тратятся на подготовку войны, что богатые в день тратят столько же, сколько бедняки за всю жизнь, – мы привыкли к этим знаниям, они не будоражат наше воображение. Но однажды приходит юноша, который хочет знать, зачем так организован мир, он даже интересуется: куда деваются рыбы, когда замерзает пруд? Утки улетают, а рыбам ведь деться некуда.
Как они живут подо льдом? Собеседник Колфилда приходит в ярость: не всё ли равно, как там рыбы? Зачем это знать? Но спросить о судьбе рыб – не то же ли самое, что поинтересоваться, а как там люди, про которых не думают? Утки улетают зимой, богатые согреты, а нищие – как?
Общественное лицемерие, как правило, кончается войной. В конце концов, большая беда, то есть война, есть не что иное, как накопленная обществом неправда, которую спрятать уже невозможно. Конечно, не оттого, что мы говорим «здравствуйте» тому, кому не желаем здравствовать, и не оттого, что мы жмём руки негодяям и умиляемся тупицам, – не буквально от этого происходят войны. Но однажды градус лицемерия в мире зашкаливает, и тогда из многих мелких неправд собирается обман всего общества. И тогда люди отдают свои жизни в битве за большую ложь, а к многим маленьким неправдам они уже давно привыкли.
 Джером Дэвид Сэлинджер
Джером Дэвид Сэлинджер
Сэлинджер, который вернулся с войны, усвоил это хорошо. Он очень не любил войну. И думал об одном: как избежать войны впредь. Ведь должен быть рецепт. Люди сочиняют утопии ради того, чтобы жилось лучше, и сочиняют их в те времена, когда становится страшно жить. А Сэлинджер увидел войну – и понял: так больше нельзя.
Нельзя допустить, чтобы людей убивали, – простое желание. Послевоенные художники Запада: Хемингуэй, Бёлль, Ремарк, то есть те, кого называют «потерянное поколение», – они писали именно о том, что потеряли себя на войне, потому что передоверили обществу то главное, что доверять обществу никак нельзя.
Это главное называется – честь. Честь не бывает общей, общественный энтузиазм может подмять всё, но честь (в любви, в дружбе, в творчестве) – понятие сугубо индивидуальное. Когда отдаёшь в общий котёл свою честь (как то делали российские большевики, германские социалисты, военные национал-патриоты всех стран), то сгорает не только честь – с ней вместе сгорает то, что ты обязан был уберечь, но не сберёг.
Книги европейских гуманистов написаны о личной чести, поруганной общим энтузиазмом, о том, что следует уберечь от массового энтузиазма свою любовь, защитить детей и семью, а не бросить их в общий котёл. Но ведь общество уверяет, что отдать свою семью обществу – это твой долг. Общество настаивает на том, что, мол, есть общие ценности, ради них надо отказаться от личных ценностей; и это звучит убедительно.
И когда начинается война, затеянная из-за какой-то дряни – амбиций императора, сделок капиталистов, интриг дипломатов, – то обманутый гражданин спрашивает общество: но разве это вот и есть те самые общие ценности? Почему личные амбиции и выгоды некоего властного негодяя суть общие ценности для всех нас? И общество отвечает несчастному: не спорь, личные амбиции царя – это общие ценности, а ты уже подписал бумагу: контракт с обществом.
И когда ты отдашь самое дорогое социуму, то социум без всякой жалости это перемелет, – вот Хемингуэй и Ремарк и рассказывают, как именно общество это делает. Книга Хемингуэя «Прощай, оружие!» как раз и написана про то, что ради любви следует отказаться от массового психоза; правды в мясорубке империалистической войны нет и спасения тоже нет. Уйди – не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы победить в главном.
Однако герой хемингуэевской книги дал себя одурачить, его поманила романтика войны, а грязь и бессмыслицу он лишь потом разглядел. То же происходит и с героями Ремарка, и с героями Чаплина, и со всеми теми, кто падок на общественные психозы. А вот Холдена Колфилда на войну не заманишь. «Ловец во ржи» – это то же «Прощай оружие!», только это ещё и «прощай, карьера», «прощай, массовый энтузиазм», «прощай, общее мнение», «прощайте, правила поведения» – прощайте, все ловушки, которые расставляет общество.
Мы попадаем в них неизбежно – нам кажется, что мы поступаем по собственной воле, а на деле мы выполняем чью-то волю. Есть правила, чужие, не нами придуманные, и на них мы никогда не давали согласия, – этих правил и регламентов тьма, и они превращают людей в функции от капитала, от рынка, от власти. Ловушки расставлены повсеместно, ещё со школьных лет. Вроде бы пустяк: немного слукавил, слегка приврал, выдал чужие чемоданы за свои, потому что на чужих наклейка дорогой фирмы; соблазнил девушку, потому что удалая юность требует побед; поддакнул преподавателю, поскольку надо быть вежливым; сочинил сценарий, которого ждёт рынок, – продвинулся по общественной лестнице.
Всё это настолько обыденно, что даже не рассматривается как грех. Но Холден Колфилд так легко не умеет, он относится к бытию серьёзно, с буквальной точностью: только так говорит, как ему кажется правильным, делает только то, что считает справедливым, – и не делает того, что ему кажется вульгарным. Даже если это мелочь и она забудется, он и к мелочи будет придирчив, не последует общему рецепту. Он постоянно проверяет самого Господа на состоятельность замысла: а зачем так придумано, если оно не выполняется?
Такое занудство крайне неудобно в быту: подросток теряет приятелей, его выгоняют из школы, он не может понравиться девушке. Причём быть таким занудой неудобно не только самому герою (ему-то само собой), но он причиняет неудобства окружающим. Подросток (вспомните роман Достоевского «Подросток») – это ведь не что иное, как проект всего общества в целом. И что делать обществу, если проект будущего приходит в негодность, как миру быть?
Мы часто говорим: «Дети – наше будущее», и вот подросток отказывается учиться быть взрослым. Он не хочет быть таким, как его родители, старший брат, учителя. Страна и общество предложили план развития, а он план отверг. Будущего тем самым у мира нет. И окружение такого подростка опасается. Девушка, приятели и учителя чувствуют себя оскорблёнными – все желали юноше добра, а он? Как строить планы, если одна из деталей общей конструкции сломана?
А Холден – именно сломанная деталь в общественной конструкции.
Холден ничего в жизни не умеет, ничему не учится, но претендует быть чуть ли не апостолом Христовым. Как он хочет строить свою утопию? Он зазывает любимую девушку в некий дом у реки, хочет уехать от цивилизации, но что он умеет? Он и гвоздя не вобьёт.
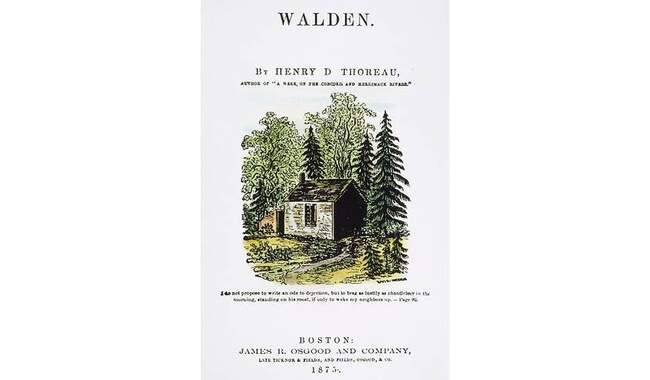 Обложка книги Генри Торо " Уолден, или Жизнь в лесу"
Обложка книги Генри Торо " Уолден, или Жизнь в лесу"
Есть такой идиллический образ бытия вдали от мира чистогана, созданный бродягой Чарли («Новые времена» Чаплина), – он находит брошенную развалюху у ручья и приглашает туда свою избранницу. Домик ветхий, в нём жить трудно; и хотя из нищего бытия можно создать праздник – бродяга Чарли может устроить танец булочек на столе, – но вот починить крышу он не в силах. как и Холден Колфилд – пригласить-то в дом он может, а как устроить быт? Есть ли у него какая-то специальность? Профессия? Умение? Образование? Он же ушёл из всех школ. Занятие у него вот какое: он спасает детей.
Сравните: апостолы стали «ловцами человеков», спасая людей от греха и ада, – вот и Холден хочет ловить детей во ржи, ловить, чтобы удерживать заблудившихся в поле детей над пропастью. Словно бы жизнь – это тёмное ночное поле ржи и по тёмному полю жизни бегают потерявшиеся дети (помните пословицу, использованную доктором Живаго, – «жизнь прожить – не поле перейти»?), а где-то детей подстерегает обрыв. Какой странный образ.
У Маяковского в его «любовной лирике» есть строчки:
Я наклонился действительно
И действительно я, наклонясь, сказал ей, как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв – будте добры, отойдите.
Отойдите – будьте добры».
Образ бродяги-подростка, образ заброшенного дома в глуши, образ ловца во ржи, спасителя от страстей и фальши уязвим по всем социальным характеристикам. Это такая утопия, которая, скорее всего, неосуществима: вечная проблема утопических жилищ в том, что кто-то должен трудиться, чтобы дом в глуши не пришёл в полную негодность; требуются рабы, дабы обеспечивать высокий досуг утопистов, но вот сам Сэлинджер (как и Гоген, и Гойя) доказывает, что так можно сделать, можно жить в глуши и рабов не надо.
Создатель этого образа, сам писатель Сэлинджер, – он буквально и выполнил то, что советует его герой Холден: взял и уехал прочь.
Писатель перестал быть писателем, ему просто надоело исполнять эту социальную роль. Такое тоже бывало. Например, Артюр Рембо перестал писать стихи, достиг пика творчества, и ему наскучило быть поэтом, вместо этого он стал путешествовать по Африке. Рембо пришлось заниматься торговлей, чтобы жить, а у Сэлинджера от его романа появился какой-то капитал – роман выходил большими тиражами; Сэлинджеру не было нужды в негоциях подобно Рембо.
 Генри Торо
Генри Торо
Он дожил до преклонных лет, не соприкасаясь с социумом вообще. Его замечали в магазинах или на бензозаправках, но, в конце концов, перестали узнавать; он впал в ту желанную безвестность, которую легко продекларировать, но трудно перенести в действительности.
Его не манила слава (он не испытывал потребности в интервью, фотосессиях, ему не хотелось высказываться в журнальных колонках), его не привлекал столичный круг общения. Можно это назвать мизантропией или паранойей. Впрочем, он всё предельно ясно изложил на страницах своего великого утопического романа – ему осточертело лицемерие.
Легко, конечно, упрекнуть Сэлинджера в том, что вести жизнь отшельника ему помогали гонорары, но миллионы «детей цветов» показали, что и гонорарами можно пренебречь. Живи как птица небесная, которая не сеет и не жнёт, согласно завету Христа, – так и поступали миллионы молодых людей. Движение хиппи было массовым, и мотивы были те же, что у подростка Холдена: войны этого мира вызваны общим лицемерием и фальшью, а значит, ради мира на земле надо порвать с этим регламентом.
Сэлинджер стал любимым писателем хиппи – он, собственно, сформулировал, почему хиппи уходят из дома. Написанная сразу после Второй мировой войны (Дж. Д. Сэлинджер опубликовал «Ловца во ржи» в 1951 году, писал этот короткий манифест одиночества долго, почти пять лет, то есть начал сразу же, как вернулся из армии; писал придирчиво – отозвал из издательства готовую рукопись в 49-м, дорабатывал), книга сделалась манифестом не одного подростка, но целого поколения, только не протестным манифестом, а скорее манифестом эскапизма.
В те годы мир ещё не знал слов «коррупция» и «откат» – во всяком случае, коррупция в государственных масштабах ещё не цвела; в те годы казалось, что урок войны не позволит более миру впасть в людоедское варварство. Но хиппи (и подросток Холден Колфилд, говорящий за всех) не верили в благие намерения; они отвечали миру примерно так: переделать эту вашу «взрослую» жизнь мы не можем и не желаем до неё дотрагиваться – у вас уже всё куплено и продано, вы договорились в мелочах о крупных обманах; мы просто отойдём в сторону; мы живём параллельной жизнью.
Так стали возникать сквоты и бит-отели, стиль жизни битников и рок, так собирались коммуны и кибуцы, так – пока на уровне безответственной болтовни – появилась мода на анархию и анархистов, так возникала та контркультура молодёжи, которая сегодня уже совершенно проглочена рынком и сама стала товаром (потребительское общество победило).
 Эндрю Уайет. "Сын Альберта"
Эндрю Уайет. "Сын Альберта"
Появились признанные центры этой контркультуры (Амстердам, например, где до сих пор существует игрушечная страна Христиания – город внутри города, утопическая земля хиппи, где, кстати сказать, производят семейные велосипеды), появилась мода на бороды и длинные волосы, на рваную одежду и безбытный быт, – так, вероятно, выглядел Робинзон на острове. Разница в том, что остров хиппи находился внутри цивилизации, и (как уверяли обиженные протестами цивилизованные граждане) этот остров жил за счёт цивилизации.
В самом деле, кто производит воду, электричество и газ? Кто обогревает жильё хиппи (пусть временное и разрушенное) и кто ткёт (пусть даже и рваную) их одежду? Птицы, возможно, и не заботятся о пропитании, но всё же они (и птицы, и хиппи) где-то еду берут; птицы выклевывают зерно с полей, а хиппи были замечены в воровстве из супермаркетов.
И так формировалась негативная оценка этой, вроде бы безобидной утопии. Нельзя уйти от общества окончательно: ты приговорён к тому, чтобы быть человеком среди людей, любой твой уход и любая протестная выходка отзовутся в обществе. Параллельно движению хиппи шла Вьетнамская война, и протест хиппи мало что менял в больших планах большой политики.
Президента Кеннеди убили, Карибский кризис ставил мир на грань войны, опустился «железный занавес». В 68-м французские студенты Сорбонны восстали против лицемерия взрослого мира, но параллельно с парижскими протестными баррикадами (а Кон-Бэндит чем не Холден Колфилд?) войска стран Варшавского Договора подавили «пражскую весну» – и Холден им не помешал.
Спустя двенадцать лет после публикации «Ловца во ржи» (в 1963 году – расцвет движения хиппи и эскапизма) английский писатель Джон Фаулз написал своего «Коллекционера» – антиутопию, возражение сэлинджеровской концепции одинокого честного бытия. Герой Фаулза практически воспроизводит мечту Холдена (или мечту миллионов хиппи) – он поселился в глуши, в хижине у ручья, и предается высокому досугу, слушает музыку и размышляет о свободе.
Ему не хватает избранницы, которая разделит с ним рай в шалаше. Не хватает той, которая воспета Чаплином в «Новых временах» (обнявшись, пара бродяг убегает из адища города), той, которую ждёт Холден Колфилд. С ней вместе добровольный изгнанник и будет вести жизнь просветлённого Робинзона, спрятавшегося от общества. Её нет. Но есть способ её найти – и герой похищает школьницу Миранду, привозит к себе, запирает в подвале хижины и старается приучить к своему образу жизни. Он хочет ей исключительно блага: он жаждет, чтобы она его полюбила и отказалась от своей фальшивой городской среды – кока-колы, телевизора и бейсбола. Но Миранда чахнет в неволе и не выдерживает подвального рая – умирает.
Антиутопия Фаулза ещё тем примечательна, что имя своей героине (Миранда) писатель заимствует из шекспировской «Бури» – так звали дочь мудрого волшебника Просперо, которую домогается чудище Калибан. Утверждение Фаулза звучит, таким образом, отчётливо: отворачиваясь от цивилизации, ты становишься калибаном и губишь живое вокруг себя; уйти нельзя – можно лишь менять жизнь изнутри её самой.
Это возражение сэлинджеровской концепции звучало бы ещё убедительнее, если бы сам писатель Фаулз не уехал из Англии на греческие острова, а волшебник Просперо из шекспировской «Бури» не жил на острове, вдали от интриг. Однако то, что западная островная утопия балансирует между двумя трактовками эскапизма – от Просперо до Калибана, – и впрямь очевидно.
Третьим (после Сэлинджера и Фаулза) из тех, кто написал портрет добровольного изгоя, стал Генрих Бёлль, создавший образ Ганса Шнира, грустного клоуна. Написанный, как и «Коллекционер», под влиянием книги Сэлинджера и, как и сэлинджеровский роман, написанный как антивоенный манифест, роман Генриха Бёлля важен ещё и тем, что Гансу Шниру не хочется никуда убегать.
Он хочет работать. Просто он хочет работать по-своему. Финал романа – прямая полемика с идеалом хиппи: грустный клоун идёт на вокзал, чтобы играть на гитаре и петь, а рядом с ним – карнавал, его толкает длинноволосый юнец. «Профессионалу легко затеряться среди любителей», – печально констатирует Ганс Шнир – сам он не хиппи, он не играет в свободу, он – настоящий художник, просто он одинокий художник, и в этом принципиальное отличие от бунта эскапизма. Роман Бёлля вовсе не утопия, поскольку Бёлль не знает, что именно предложить. Война закончилась, но все те, кто развязал эту войну, оказались благополучно устроены в антивоенной мирной жизни: глава «гитлерюгенда» сегодня возглавляет комитет по смягчению расовых противоречий. И так во всём. Бёлль пошёл ещё дальше Сэлинджера в неприятии общественного лицемерия – его герой не переносит даже запаха вранья, способен определить ложь по запаху. Бёлль наделил Ганса Шнира удивительным даром различать запахи по телефону. Всё действие романа состоит из телефонных разговоров – клоун разговаривает с католическим прелатом, коллекционирующим иконы с Мадоннами, и слышит по телефону запах пива.
Эта поразительная метафора очень точно передаёт то – простое, но труднообъяснимое – свойство людей видеть ложь с первого мгновения, даже если она замаскирована. Выходит правитель к народу, и ещё рта не раскрыл, а понятно, что соврёт. После большой войны это ощущение тотальной лжи обострилось до уровня обоняния. «Вы не те, за кого себя выдаёте!» – отчаянный крик Бёлля, но этот крик почти бессмысленный, он не обращён ни к кому.
Самое дикое, что судьёй общества выступает клоун – человек в маске показывает, что клоуны все вокруг, все носят маски. При этом жизнь вокруг него как бы настоящая, а вот он полноценной жизнью не живёт. Тот, кто слишком остро реагирует на запах лжи, – не нужен. Подруга уже давно бросила его, ушла к одному из тех священников, от которых пахнет пивом, его художественная карьера сломана, он выброшен из общества не понарошку, как Холден, не по прихоти, как персонаж «Коллекционера», а по-настоящему. Он реально лишний. И не лишним будет спросить: а как клоуну жить дальше?
 Генрих Белль с Александром Солженицыным
Генрих Белль с Александром Солженицыным
Генриху Бёллю, последовательному хронисту мутаций германского общества, довелось писать и об анархистах, и о террористах («Поруганная честь Катарины Блюм»), появившихся в послевоенных городах, писать о том, как христианское милосердие неукоснительно заставляет нас принять мораль парий – выступить на стороне отверженных, но этими отверженными зачастую являются малосимпатичные субъекты.
Бёлль добавляет шокирующую деталь в свои христианские романы: на сцену выходят «нежелательные общественные элементы», которые разрушают благостное послевоенное существование цивилизованной Европы, – турецкие гастарбайтеры, беженцы, радикалы и наркоманы. Это уже далеко уводит нас от сравнительно мирного эскапизма Холдена Колфилда и хиппи, но это только последовательно.
Если бы его роман «Групповой портрет с дамой» был опубликован сегодня, то текст почли бы эпатажным с точки зрения общего обывательского мнения, отвергающего присутствие беженцев в Европе (они же несут хаос!), а героиня Бёлля как раз выходит замуж за такого вот гастарбайтера, нищего турка, чужого в европейской среде. Но и этого писателю мало – он последовательно выводит на сцену всё новых и новых нежелательных для цивилизации действующих лиц: анархистов, коммунистов, террористов.
Нельзя отойти в сторону – и сохранить благостное выражение лица. Там, в той стороне, куда ты отошёл, бывает всякое: не ты один решил порвать с буржуазным лицемерием. Ты готов к тому, что твоим союзником по борьбе с буржуазной фальшью окажется член «Красных бригад»?
В ту пору (со времён публикации «Ловца во ржи» прошло почти двадцать лет) протест против общества принял экстремальные формы. И те философы, прекраснодушные идеалисты вроде, скажем, Сартра или Негри, которые волновали умы молодёжи утопическими социалистическими фантазиями, оказались адептами радикальных теорий и даже практик (маоизма и «Красных бригад»). От движения хиппи и битников был сделан всего лишь маленький шаг, но он вёл к партиям анархистов и как следствие радикальных националистов, поскольку анархия всегда отливается в какую-то форму.
Европа 70–80-х (это время, когда Сэлинджер уже запер дверь своего убежища в Корнише) оказалась нашпигована разнообразными протестными и радикальными движениями, которые требовали вооружённой борьбы, а за что именно – они толком сформулировать не могли, но против фальшивой цивилизации рантье и банкиров Запада. Так прекраснодушная проповедь эскапизма и пацифизма, не прямо, но последовательно, вела к образованию новой предвоенной атмосферы.
Идиллия бегства от проблем городов в книгах Сэлинджера и Торо, эскапизм книг «Прощай, оружие!» и «Три товарища» требовали новой редакции – бежать от неправды мира хорошо, когда твоё убежище надёжно защищено, но если спрятаться некуда? Если мир опять расшатан?
Сами авторы концепций эскапизма – Камю (в «Постороннем») и Хемингуэй (в «Прощай, оружие!») – вынуждены были пересмотреть свои взгляды. Их в своё время история поставила перед фактом: спрятаться от общей беды некуда. Так появились романы «Чума» и «По ком звонит колокол», опровергающие постулаты «Постороннего» и «Прощай, оружие!», показывающие, что нет чужой беды, что надо принять участие в любой чужой войне – потому что это твоя война.
Однако, поскольку Хемингуэй был правдивым писателем, он и это прекраснодушное утверждение опроверг. Уже сам роман «По ком звонит колокол» показывает бессмысленность поступка Роберта Джордана, его обречённость. Пока он готовил взрыв моста, саму операцию отменили, генерал, командующий наступлением, отстранён, комиссар Андре Марти – расстрельщик и подлец и люди, которых он повёл на смерть, погибли зря. Мало этого, писатель показывает, что в испанской гражданской войне, в которой американец принял участие, он не понимает ничего, а правды нет ни с одной из сторон.
Под конец жизни любимым выражением Хемингуэя стало испанское Estamos copados – «мы окружены». Так именно он и чувствовал себя: наше сознание не мирится с несправедливостью, мы обязаны совершить поступок, но любой поступок, даже протестный, будет использован властью, природой общества, социальной неправдой – и превратится в поддержку несправедливости; это почти неизбежно.
Подросток Холден Колфилд остался подростком навсегда – мы ведь не знаем, как старел Сэлинджер, он нам не сказал, что думает про изменения политики, про Ирак и Югославию, перестройку и Украину. Он просто закрыл дверь в своём домике в Корнише. Впрочем, точно так же поступали Иоанн Креститель и святой Франциск. Надо сохранить главное – и Сэлинджер предложил один из вариантов.
«Нет человека, который был бы как остров» – такой эпиграф ставит Хемингуэй к «По ком звонит колокол», а последний роман называет «Острова в океане».

























